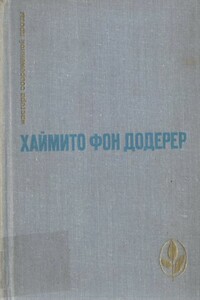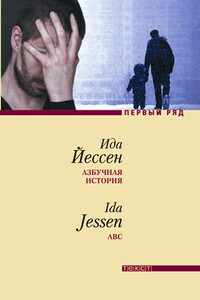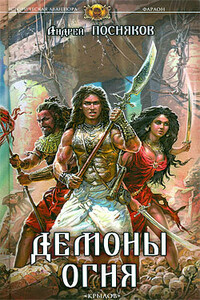Дмитрий Разумов
ЛЮБИМОЕ СЛОВО
Там, где старая рязанская дорога, в семнадцати верстах от города, делает крутой изгиб, для того чтобы идти далее вдоль маловодной речки Мокшанки, на пологом холме, что со стародавних времен имеет у местных жителей название Ягодного, стоит усадьба. Построенный пятьдесят один год назад дом выглядит запущенным. Бледно желтые стены его давно облупились, беленые колонны, что стоят перед входом, облезли и кое–где, у подножия, стали покрываться зеленым мхом. Меж стоек портика, выполненного некогда в классическом романском стиле, густо была натянута паутина, посредине которой маленький коричневый паучок, вцепившись всеми лапками в попавшуюся в ловушку муху, жадно пил ее соки. Одно из окон в первом этаже совсем не имело стекол и проем его, от сквозняка, был заделан неровными кусками осиновых брусьев. И вполне можно было бы счесть эту обитель за необитаемую, если бы не тусклый огонек, что пробивался сквозь давно не мытое, сплошь покрытое копотью, окно углового балкона. Да, здесь жили люди. Точнее, здесь жил один человек. Имя его было Евстратий Селиверстович Салмонилесов.
Внук бригадного генерала и сын почившего пятью годами ранее знаменитого полковника Селиверста Салмонилесова, Евстратий Селиверстович, поневоле выбрав себе в жизни военную стезю, находясь в чине прапорщика, сразу по смерти своего родителя, подал в отставку и удалился в родное имение Щеголевка. В наследство молодому повесе, а было ему только тридцать два года, досталась деревенька с шестью десятками душ, да устроенная на западный манер ферма, где растили лучшего в округе порося. Но за пять последних лет, от бездарного управления Евстратия Селиверстовича, ферма пришла в упадок, мужики да бабы, что быстро привыкли к мягким порядкам нового барина, начали в непотребных количествах гнать брагу и, бывало, упивались до такого состояния, что хоть их самих на этой ферме и разводи.
Жил Евстратий Селиверстович бобылем, соседей чурался, и все больше любил проводить время в одиночестве. Среди других же помещиков Рязанского уезда слыл он неряхой и малокультурным типом. И если для первого утверждения у них были наглядные пособия в виде всего быта Салмонилесова, то для второго им совсем не требовались глаза, а надобен был только слух.
Был у молодого барина один весьма пренеприятный изъян в воспитании только усилившийся в нем за годы военной службы. Слово–паразит. И не то чтобы оно ему как–то мешало в жизни, или делало его тихое существование некомфортным, но, ясно понимая, что только из–за него с ним не желают общаться соседи, сам Салмонилесов недолюбливал его, хотя и продолжал безудержно употреблять.
Голос у Евстратия Селиверстовича был басовитый, громкий и очень подходил к его могучему, хотя и заметно заплывшему жирком, телу. От постоянного сидения в кресле и курения дешевого табака, Салмонилесов заработал себе геморрой и часто, испытывая нечеловеческие боли, с целью хоть как–то отвлечься, орал своему дворовому мальчишке по имени Прошка, чтобы тот мигом бежал к Соломону Юрьевичу и звал его к ужину.
Соломон Юрьевич Тычинкин, сам из иудеев, но всячески скрывающий это от других, был единственным человеком в округе, с которым Евстратий Селиверстович мог спокойно поговорить на равных. К тому же Соломон Юрьевич был местным уездным дохтуром и посему, посещение его было для Салмонилесова приятно вдвойне, ибо тем самым он мог не только потешить свою истосковавшуюся и томящуюся по всему новому душу, но и излечить телесные недуги. Частенько Тычинкин заезжал к помещику–бобылю, и, как человек много где бывающий, рассказывал Евстратию Селиверстовичу все последние новости, слухи и сплетни. Прапорщик всегда слушал своего гостя внимательно, учтиво задавал вопросы, высказывал по некоторым положениям и свое мнение. А после этого приглашал доктора в залу откушать чаю. За чаем они, как это давно у них повелось, принимались за карточную игру, которая часто перерастала у них в шумную свалку и затягивалась зачастую далеко за полночь. И тогда, над давно уже погрузившийся в тихий безмятежный сон деревней, разносилось громогласное.
— Жооо–паа–а-ааа…
Припозднившиеся же из кабака мужички тогда останавливались, снова прислушивались к тишине, и один из них непременно говорил.
— Опять барин к ночи жопу поминает. Никак с дохтуром в карточки игру затеял.
А второй обязательно добавлял.
— Уж, жанился бы что ли.
Евстратий же Силиверстович никогда не играл в карты на интерес, а поскольку денег у него никогда не было, то и проигрыш свой он всегда оплачивал тем, что выходил на угловой балкон своей покосившейся усадьбы и что есть мочи орал в ночь слово «жопа». Того же он требовал и с проигравшего.
Соломон Юрьевич не любил этого и даже не раз пытался объяснить Евстратию Селиверстовичу с научной точки зрения, что постоянное употребление им слова «жопа» имеет под собой почву душевного неспокойствия, и даже несколько раз назвал это явление «логореей вульгарис». Салмонилесов же только отмахивался от этого, говорил, что никакого расстройства в душе у себя не ощущает и слово это употребляет вовсе не произвольно, а исключительно по своей воле и разумению. Умом же при этом Евстратий Селиверстович понимал иное, ибо все–то у него сводилось всегда к одному. В любом разговоре, о чем бы не заходила речь, постоянно срывался он на излюбленное им словесо. И темно то у него было «как в жопе», и напивался то он непременно «в жопу», и просящего о какой милости мужика, вечно называл он жополизом. Неумелому кузнецу он давеча высказал, что, мол, руки то у того произрастают не из туловища, как у всех, а из жопы, а управляющему своему Мирону приказал перестать жопой думать и обещал надавать ему за это по… жопе. На вопросы Тычинкина о делах на ферме, Евстратий Селиверстович непременно говорил, что дела эти все в жопе, что у приказчика его вместо головы какая–то жопа выросла, и что в жопе он все это видел.