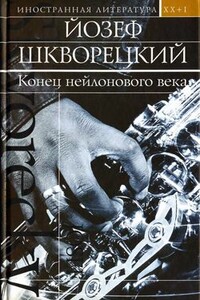Река эта существовала давно, с незапамятных времен. Весной, когда на горах начинали таять снега, образующиеся потоки с шумом бежали по камням к зажатой меж высоких берегов реке, что река не выдерживала: выплескивала эту грязь, столько грязи, на берега. По колышущейся на ее поверхности пене можно было читать о происшедшем как в газете. Вода служила и почтальоном. Горы посылали родне на равнину письма — прошлогодние листья, но иногда лишь щепки — траурное извещение о том, что деревья срублены. Иногда по воде плыл ворох гнилого сена, значит где-то поток со снежной вершины выбежал на луга и, подхватив копну, отдал ее реке: пусть делает с ней что хочет.
А река, вздымаясь, металась, ярилась, грызла берега, с одного места уносила, на другом откладывала ил, рыла ямы, словно зная, что днем в них будут отлеживаться большие сомы, которые только по ночам совершают разбойничьи набеги. Она прокладывала и подводные туннели в несколько метров длиной. Они вели на берег, где высоко над водой получались норы, сухие и скрытые от посторонних глаз.
Когда снег в горах весь исчезал, ручьи делались степенными и сбегали в долины хоть и проворно, но без прежнего неистовства; река замедляла свое течение, становилась спокойней, чище и ласково поглаживала берега, точно прося прощения за весеннее буйство.
Вода все убывала и убывала, приносила лето, полевые цветы, запах сена и пернатое царство больших лугов. Когда река завершала свои весенние набеги, многие птицы еще молча сидели в яичной скорлупе, а теперь яйца разбивались, из одного с любопытством высовывала голову дроздовидная камышовка, из другого кряква, маленькая цапелька или ушастая сова.
Река не останавливалась, текла, как время, у которого нет ни начала, ни конца. Уносила и приносила дни, недели, и когда старый тополь уронил в нее свой первый серебристо-золотой лист, вода покружила его, рассмотрела как следует, а потом с тихим плеском сказала:
— Осень пришла.
— Да, — кивнул старый тополь и склонился над рекой, словно бы тщеславно смотрясь в ее зеркало.
— Когда-нибудь, старый тополь, ты свалишься ко мне в воду, — пробормотала река, — но мне это нипочем.
— Чепуху мелешь, хотя стоять мне н нелегко, — трепетало на ветру старое дерево. — Подо мной пещера, и не за что цепляться корнями. Ты же ее и проделала.
— Это старая история, — оправдывалась река. — Ты был тогда молоденьким деревцем. И не забудь, я тебя сюда принесла. Может, под тобой рыл землю Лутра?
— Нет. Он, правда, прокопал выход в кустах, но это пустяки. А потом только траву таскал в нору. С ним я дружно живу.
— Я тоже, хотя иногда он ловит слишком много рыбы, но это дело рыбаков. Скоро, сдается мне, они сдерут с него шкуру, его прекрасную шкуру.
— Нет, — прошептал тополь, — с Лутрой не справиться рыбакам и даже егерю. Он и на охоту под водой идет и под водой назад до норы добирается. Даже я редко его вижу, не знаю, дома ли он сейчас.
— Ступай, дочка, — сказала река маленькой волне, — ступай, погляди, дома ли большой Лутра.
Волна юркнула в туннель и тут же выкатилась оттуда.
— Дома, — весело прожурчала она. — Шевелит только носом. Видно, спит.
— Лутра спит и не спит, — прошептал старый тополь, — а вот меня определенно клонит ко сну.
Дремал весь край.
Клевал носом камыш, поскольку уже не стрекотала камышовка; спала осока, которой не надо было уже баюкать ярких стрекоз; спал на берегу шиповник, которому незачем было уже охранять опустевшее гнездо сорокопута; зияли пустотой примолкшие гнезда в откосах берега; даже лодки лежали на берегу, повернувшись вверх килем, ведь рыбаки убирали где-то кукурузу. Только Лутра не спал.
Он, в сущности, почти никогда не спал. А если и засыпал, то сон у него был более чуткий, чем у лисы, у куницы или рыси, которые славятся своим зрением, слухом и обонянием, но все эти три чувства: зрение, слух и обоняние взятые вместе не были у них так совершенны, как у выдры.
А Лутра был выдрой, самым большим и великолепным самцом-выдрой, который когда-либо оставлял следы своих лап в береговом иле. Он не был водным животным, но плавал лучше, чем самая проворная рыба, видел в воде лучше, чем нырки, и слышал лучше всех обитателей вод, у которых нет ушей, и звуки они воспринимают телом благодаря незаметному колыханию воды.
Лутра же слышал! Слышал, хотя нырял опуская уши, чтобы вода не проникла в ушную раковину, снабженную тонкими сосудиками-антеннами. Он с самого рождения умел совершенно закрывать уши.
Его обоняние не было испорчено табачным дымом, как у людей, или вонью конюшни, как у домашних животных, и если еще принять во внимание его зоркие глаза, которыми он видел лучше, чем дикая кошка, то можно с уверенностью сказать, что вряд ли из его великолепной шкуры когда-нибудь сделают шапку, или меховой воротник.
Сейчас большая выдра отдыхает, лежит свернувшись клубком, и по ее огромному, почти полутораметровому телу почти не заметно, что она дышит. Глаза у нее закрыты, но нос подрагивает, уши шевелятся, точно донося своему хозяину о новостях в окружающем мире.
Нора у Лутры больше, чем обычно бывает у выдр, — ведь ее промыла река во время половодья, и он только расширил туннель, который, полого поднимаясь, врезается глубоко в берег. Благодаря его бесконечному хождению туда и обратно стенки и пол коридора стали гладкими, а в конце находится выстланная сухой травой и мохом нора, где сейчас после ночной охоты отдыхает Лутра.