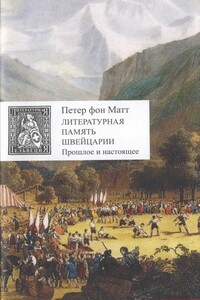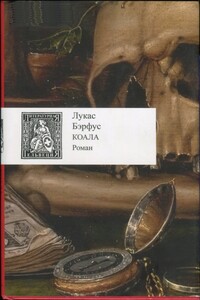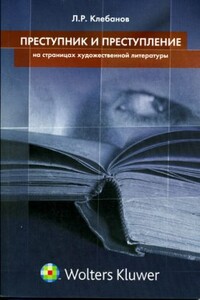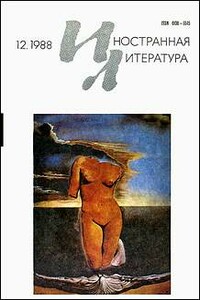ШВЕЙЦАРИЯ МЕЖДУ ИСТОКАМИ И ПРОГРЕССОМ. К истории души одного народа
Мы шесть веков шлифуем все ту же песнь.
Готфрид Келлер, из стихотворения «Всенародный сбор средств для ликвидации долгов, оставшихся после войны с Зондербундом, 1852»
Картина начинает говорить
Сумеет ли теленок спастись? — часто спрашивали мы себя в детстве, со смесью страха и восхищения. Репродукции «Готардской почты»[1] выныривали вновь и вновь, в календарях и иллюстрированных журналах, а вместе с ними неизбежно возникал и этот вопрос. Скорость лошадей должна быть значительной. Две гнедые, сзади, производят впечатление скорее послушных, и даже кажется, будто они бегут медленнее двух других, хотя такое невозможно; а ослепительно белые лошади с развевающимися гривами — можно ли их вообще удержать, столь неистово мчащихся вперед? Между тем, почтальон сидит на облучке странно спокойный. Кажется, даже погоняет упряжку. Он разве не видит теленка? Или ему неизвестно, что дилижанс перевернется, если собьет беззащитное животное? Лошади запутаются в поводьях и лямках, и, может, дилижанс даже опрокинется через низенькую стенку, которая, надо думать, ограждает край дороги — и выглядит так же зловеще, как та, что изображена на верхней половине картины. Или возница сошел с ума и не замечает, что лошади несутся вскачь? Шаткий экипаж, запряженный тремя неудержимо несущимися белыми лошадьми, которые кажутся конями солнечного бога, памятными нам по многим изображениям — не в последнюю очередь тем, на которых Фаэтон, сын Гелиоса, не справившись с отцовскими скакунами, вместе со всей сверкающей упряжкой обрушивается в бездну.
Фантазия? Может быть. Вопрос лишь в том, почему она так упорно напрашивается. А происходит это потому, что динамичная композиция картины подчеркивает наличие разных скоростей. Здесь важна не только парадоксальная разница в темпе между гнедыми и белыми лошадьми, но и противоречие между стоящими коровами и мчащимся дилижансом. Коровы смотрят на событие, превосходящее возможности их восприятия. Вероятно, вспугнутое стадо само пробежало несколько шагов и остановилось вот только что. Теперь, во всяком случае, оно застыло, ощущая смесь страха и любопытства, и именно потому теленку досталась его особая роль. Наш страх за это юное существо обусловлен еще одной разницей в скоростях. Теленок, хотя он бежит очень быстро и даже взвихривает пыль, как белые лошади, спастись от них не в состоянии, если только в последний момент не доберется до обочины. Так что же, он несется прямо или слегка наискось, к краю дороги? Возможно и то, и другое. В ту секунду, которая изображена на холсте, всё еще находится в подвешенном состоянии: ни одно копыто не касается земли, что придает сцене оттенок нереальности. Теленок, часть остановившегося стада, может стать жертвой ускорения цивилизации, которое стало событием на этой дороге вдоль южного склона Сен-Готарда. La Tremola — так называется опасный отрезок маршрута, от слова tremolare: трястись, дрожать. Страх перед бездной — страх низвергающегося Фаэтона — когда-то дал этому отрезку пути его имя.
Теленок, следовательно, занимает середину между полярными противоположностями, изображенными на картине. Но эта середина — отнюдь не место равновесия, хоть и соединяет в себе быстроту и медлительность: теленок затравлен несущимися вскачь рысаками и покинут остановившимися коровами. Его задравшийся хвост соответствует хвосту белого жеребца и бичу кучера. Благодаря этому теленок кажется вовлеченным в общее движение. Он тоже участвует в движении, а станет ли он в итоге жертвой — таким вопросом задавались все швейцарские дети, на протяжении по крайней мере ста лет, с тех пор как Рудольф Коллер, друг Готфрида Келлера, в 1873 году написал эту картину.
Коллер прославился как живописец-анималист. Он жил на окраине Цюриха, в Цюриххорне, прямо на берегу той части озера, которая тогда еще не входила в черту города, и держал несколько ухоженных коров различной масти, чтобы всегда иметь под рукой модели для своего искусства, которые он изображал в окружении луговой травы, кустарников или прибрежного камыша. Какими бы мило-патриархальными ни казались на первый взгляд его картины, они порой выходят далеко за пределы реалистического мейнстрима, характерного для того времени. Головы некоторых животных изображены с таким гиперреалистическим совершенством, что мерцание шерсти и блеск влажных ноздрей вызывают в памяти стилистические эксперименты модерна. И нередко в какой-нибудь безобидной сельской сцене мы вдруг обнаруживаем странную двойственность. Например, «Корова в огороде» (корова, очевидно, вломилась на огражденный участок, стоит по колено среди созревших капустных кочанов и, жуя широкий лист, пристально смотрит на зрителя) представляет собой поразительную вариацию на тему надкушенного райского яблока. Адам, правда, отсутствует, но эта могучая Ева в нем не нуждается. А в роли Господа Бога, обнаруживающего факт грехопадения, оказывается сам зритель. Это игра в секуляризацию; вещи такого рода нравились и приятелям Коллера, с которыми он частенько выпивал, — Келлеру и Бёклину.