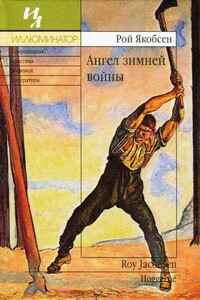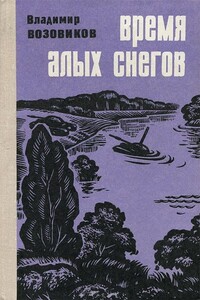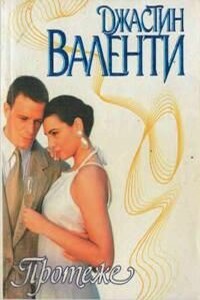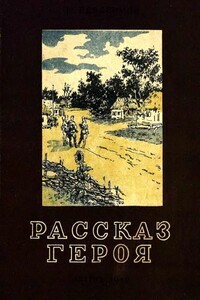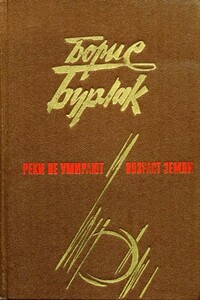Роман Бориса Бурлака «Левый фланг» перекликается с его первой книгой «Шуми, Дунай», увидевшей свет в Москве и переведенной на болгарский язык в самом начале пятидесятых годов. Спустя четверть века автор снова вернулся к военной теме. Надо отметить, что эта тема всегда находила то или иное отражение во всех его книгах.
Писал ли Б. Бурлак о становлении молодой братской республики — Латвии («Рижский бастион») или о второй индустриальной молодости Урала («Седьмой переход», «Граненое время»), исследовал ли он художественными средствами судьбы наших современников («Седая юность», «Минувшей осенью»), — в центре повествования всегда оказывались бывшие фронтовики.
Это пристрастие к людям, прошедшим суровую школу, объясняется, конечно, не только жизненным опытом, но и публицистической позицией писателя. Именно то поколение советских людей, которое составляло сердцевину нашей армии, ее цвет, и вынесло на своих плечах главный груз послевоенного строительства.
«Левый фланг» — это своеобразный сплав мемуаристики и художественного домысла. Не случайно в романе действуют такие исторические личности, как маршал Толбухин, генералы Бирюзов, Неделин, Шкодунович и другие. Что касается батальных событий на южном крыле фронта в последние месяцы войны, то автор также строго следует фактам, хотя героями этих событий и выступают иногда лица вымышленные.
Уходят, уходят генералы Отечественной войны…
Короткая весть о гибели Бирюзова, Жданова, Шкодуновича и других больно толкнула меня в грудь. Они летели на празднование двадцатилетия освобождения Белграда и в тумане врезались в гору Авала, увенчанную памятником Неизвестному солдату.
Авала, Авала… Я беру всю истертую на сгибах топографическую карту, чудом уцелевшую с той поры. Вот она, эта командная высота, на которую немцы возлагали столько надежд в октябрьские дни сорок четвертого.
Я представляю, как волновались наши генералы, когда все ближе подлетали к этим памятным местам. Наверное, весь освободительный поход через Югославию — от горной, зажатой среди утесов реки Тимок до спокойной равнинной Дравы — четко рисовался перед ними сквозь туман… Ну разве мог кто подумать в сорок четвертом, на ближних подступах к Белграду, в невероятной горячке последних месяцев войны, что ровно — день в день — двадцать лет спустя они погибнут на той самой горе Авала, с которой открывался вид на югославскую столицу? Нет, это уж на редкость несправедливая военная судьба.
Генерала Шкодуновича, командира нашей дивизии, потом нашего корпуса, я не раз видел под огнем. Он не заигрывал со смертью, не красовался молодецкой храбростью: он просто работал на НП, зная, что это опасная работа. Бывало, под бомбежкой или артналетом мы попрячемся в земляные щели, а он только пригнется у стереотрубы, чтобы не ударил в голову шальной осколок, и продолжает наблюдать за полем боя или за тем, что творится в небе. Кто-то наповал убит, кто-то ранен или контужен, а он цел и невредим, и лишь посуровеет от чужой боли его доброе лицо. Таким был наш комкор, которого мы в шутку за этакую неуязвимость называли меж собой Зигфридом. Но, помню, как он горестно сказал, когда на случайной мине подорвался один видавший виды, удачливый сапер: «К сожалению, война злопамятна».
Да, война действительно злопамятна.
И эта авиационная катастрофа под Белградом заставила меня сызнова вернуться в прошлое, в тесный круг моих однополчан, которые сложили головы на берегах Донца, Днепра, Днестра, Дуная, Дравы. Будь они сейчас среди живых, они бы разделили мою печаль.
Быть может, особенно не повезло Третьему Украинскому фронту. Вскоре после войны не стало нашего командующего. Мы все, толбухинские солдаты, были потрясены его неожиданной кончиной. Герой обороны Сталинграда и штурма Севастополя, любимец болгарского народа, друг югославских партизан, душа и н т е р н а ц и о н а л ь н о г о фронта в Венгрии, головной колонновожатый всего Дунайского похода вплоть до Вены, — таким был Федор Иванович Толбухин. Его храбрость была столь очевидной, что некоторые из нас с удивлением узнали о слишком позднем присвоении ему звания Героя — в честь двадцатилетия Победы.
Немногим дольше Толбухина оставался в строю командарм Глаголев. На Донце и на Днепре он командовал нашей армией. Мы чувствовали себя за ним как за каменной стеной. Конечно, иные из солдат и в глаза не видели его, но, странное дело, солдаты всегда тонко чувствуют характер полководца. Еще в сорок третьем, под Харьковом, заняв свое место на переднем крае, мы быстро убедились в том, что попали в умные, заботливые руки доселе неизвестного нам генерала. Мы привыкли считать Глаголева своим даже тогда, когда он уже командовал соседней, 9-й гвардейской, армией, с таким блеском наступавшей на Венском направлении.
Давно нет в живых и маршала артиллерии Неделина. Но до сих пор оттуда, с того Кицканского плацдарма, южнее суворовских Бендер, долетает гул стоминутной артиллерийской подготовки. Такой тесноты от множества гаубиц и пушек никому из нас еще не приходилось наблюдать на переднем крае. Неделин, точно органист, на тысячах труб начал громовую у в е р т ю р у перед Ясско-Кишиневской битвой, и вся земля в тираспольских садах покрылась яблоками, и пехота пошла по яблокам в атаку. Потом мы не раз слушали в окопах его утренние ф у г и на Дунае, на линии Маргариты, на Балатоне. И в венском лесу перекатывалось эхо его победных батарей, заключительное эхо Великой войны. Много лет спустя его назначили главнокомандующим ракетными войсками. Но тут несчастье…