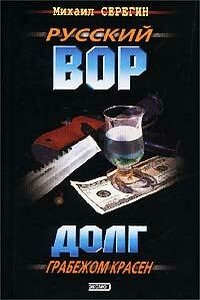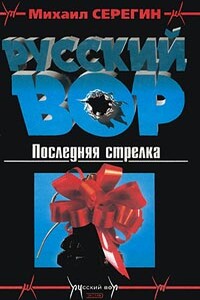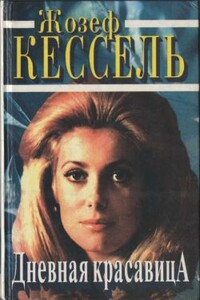Может быть, она дотронулась до моих век, желая увидеть, что за ними скрывается? Точно не могу сказать. У меня было такое ощущение в момент пробуждения, словно мне по лицу провели легкой шершавой кисточкой, но когда я совсем проснулся, то она уже спокойно сидела на уровне подушки и очень внимательно, даже пристально глядела на меня.
Ростом она была не больше кокосового ореха. И цветом она тоже была вся ореховая. Покрытая короткой шерсткой от пальцев ног до макушки, она казалась плюшевой. И только на мордочке была черная атласная полумаска со сверкающими сквозь прорези капельками-глазами.
Только-только начало светать, но света походной лампы, которую я от усталости забыл погасить, хватало, чтобы отчетливо видеть на фоне побеленных известкой стен эту полуреальную провозвестницу зари.
Несколькими часами позже ее присутствие показалось бы мне естественным. Ее племя обитало на высоких деревьях вокруг хижины: на одной-единственной ветке могли играть целые семейства. Однако я прибыл сюда лишь накануне вечером, измученный, когда уже стемнело. Потому-то и взирал, затаив дыхание, на крошечную обезьянку, пристроившуюся так близко от моего лица.
Не шевелилась и она. И даже капельки в разрезах черной атласной полумаски тоже оставались неподвижными.
Взгляд ее был лишен страха, недоверия, равно как и любопытства. Я являлся всего лишь объектов серьезного, беспристрастного изучения.
Потом плюшевая головка величиной с кулачок лежащего в колыбельке младенца наклонилась влево. Мудрые глаза погрустнели, сделались жалостливыми. Жалость эта касалась меня.
Можно было подумать, что, желая мне добра они хотят дать мне какой-то совет. Какой?
Должно быть, я невольно пошевелился. Дымчато-коричневый клубочек с золотистым отливом долетел, едва касаясь предметов, до окна и растворился в утреннем тумане.
Моя одежда для бруссы – так называются африканские кустарниковые заросли – лежала на полу возле раскладной кровати, рядом с лампой, куда я бросил ее, ложась спать.
Я оделся и вышел на веранду.
Я припоминал, что накануне отметил про себя, несмотря на темноту, что хижину с трех сторон окружали густые колючие кустарники, а впереди простиралась, уходя куда-то в таинственную тьму, огромная поляна. Но сейчас все это было закрыто туманом. Единственным ориентиром вздымалась прямо напротив меня, на краю неба, гигантская, увенчанная вечными снегами плоская вершина Килиманджаро.
Мое внимание привлек похожий на звук раскатившихся игральных костей легчайший шум, и я взглянул на сколоченное из нетесаных досок крыльцо, ведущее на веранду. По нему медленно, уверенно поднималась газель.
Газель, самая настоящая, но такая крошечная, что ее уши не достигали моих колен, рожки походили на сосновые иголки, а копытца были с ноготок. Это чудесное создание остановилось, лишь вплотную приблизившись ко мне, и подняло мордочку вверх. Стараясь двигаться как можно осторожнее, я пригнулся и протянул руку к точеной, самой изящной на свете головке. Маленькая газель не шевелилась. Я касался ее ноздрей, гладил их.
Она позволяла себя ласкать, глядя мне прямо в глаза. И в несказанной нежности ее взгляда я обнаружил то же самое чувство, что и в поразившее меня своей печалью и мудростью взгляде маленькой обезьянки. Но и на этот раз я все еще не понимал.
Как бы желая извиниться за то, что она не умеет говорить, газель лизнула мне пальцы. Потом она тихонько высвободила свою мордочку. И снова ее копытца извлекли из досок крыльца звук, похожий на шум катящихся игральных костей. Она исчезла.
Я снова остался один.
Однако за эти несколько мгновений невероятно короткая тропическая заря уже превратилась в настоящий восход.
Из глубины теней брызнул и залил все вокруг свет, дивный, роскошный, горделивый. Все сияло, искрилось, пылало.
Снега Килиманджаро, пронзенные алыми стрелами.
Масса тумана, которую вспарывали, разрушали, всасывали, рассеивали солнечные лучи, превращая его в пар, дымку, завитки, спирали, ленты, блестки, в напоминающие алмазную пыль бесчисленные капельки.
Трава, обычно сухая, жесткая, желтая, в этот момент стала мягкой и сияющей от росы…
На обступавших мою хижину деревьях, верхушки которых казались только что отлакированными, пели птицы и тараторили без умолку обезьяны.
А клубы тумана и пара перед верандой рассеивались один за другим, освобождая все более обширное и таинственное зеленеющее пространство, в глубине которого плавали новые облака, которые тоже в свою очередь рассеивались.
Земля раздвигала один занавес за другим, открывая свою сцену для представления дню и всему свету.
Наконец на другой стороне поляны, где еще висел кое-где неосязаемый пушок, блеснула вода.
Озеро? Пруд? Болото? Ни то, ни другое, а некое подпитываемое, скорее всего, небольшими подземными источниками водное пространство, которое, не имея сил разлиться дальше, трепетало в переливчатом равновесии среди высоких трав, камышей и густого кустарника.
А около воды были звери. Много раз видел и издали вдоль дорог у троп – Киву, Танганьика Уганда, Кения – во время моих только что заверь шившихся странствий по Восточной Африке. Но то были лишь неотчетливые, тут же пропадающие видения: стада, рассеивающиеся от звука автомобиля, стремительные, испуганные, тающие в воздухе силуэты.