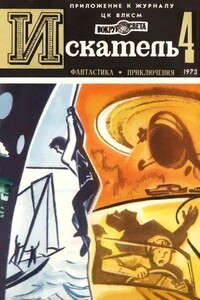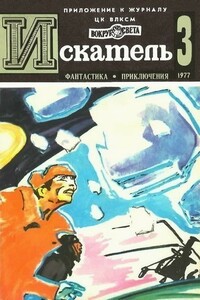Mors magis amicior quam inimicior[1].
Латинская пословица
Обычно финальная фраза романа давалась ему ценой некоторого усилия. И не в подборе слов дело — они-то сами собой стекали с пера, как уходит через шпигаты залившая палубу случайная волна. Наверное, так ощущал себя Сизиф за миг до мгновенного триумфа, когда до вершины горы оставался крохотный последний шаг. И Жюль всякий раз знал, что ещё минута — и камень сорвётся, рукопись унесётся вдаль, спеша рухнуть в алчущие жерла Этцелевых (не важно, отца ли, сына ли) печатных станков, а ему придётся вновь начать восхождение от первой фразы к последней, но уже следующей книги. Однако сегодня было не так, всё давалось на диво легко. И на бумагу словно само собой ложилось: «теперь ваш покорный слуга может начертать своё имя… — тут Жюль улыбнулся, чуть придержал перо и после почти неощутимой паузы продолжил: — Амедей Флоранс, репортёр „Экспансьон Франсез“ — прежде чем написать большое, высокое, царственное слово „конец“».
Он отодвинул лист, давая время чернилам просохнуть, а себе осознать, что конец действительно царственен. Исполнен труд, завещанный от Бога. Слова были не его — кого-то другого, прекрасного, судя по всему, писателя, чьё имя почему-то не спешило всплыть в памяти… Только — от Бога ли? Скорее, от собственной совести, от неизбывного чувства долга. Или всё-таки именно Творец дал ему странное нынешнее существование, позволившее этот долг исполнить? Ладно, поразмыслить на сей счёт ещё успеется.
* * *
Смерти боятся далеко не все — в конце концов, она лишь естественное завершение жизни. Но едва ли не каждый страшится умирания — перехода то ли в жизнь вечную, то ли в очередную земную реинкарнацию, то ли в ничто, это уж кто как себе представляет. Перехода чаще всего длительного, болезненного и мучительного.
Жюль умирания не боялся — оно и так тянулось слишком долго, с памятного девятого марта далёкого восемьдесят шестого… Время шло к пяти, и уже начинали сгущаться вечерние сумерки. Он возвращался из читальни Промышленного общества, до дому оставалось буквально два шага, когда из-за дерева выступила неясная тень и прогремели два выстрела. Именно прогремели — не литературщина тут, но факт: револьвер и вообще-то стреляет оглушительно, а уж если расстояние чуть больше метра — и подавно. За этим грохотом он в первые мгновения даже не почувствовал боли и каким-то чудом умудрился, метнувшись вперёд и вбок, обезоружить нападавшего. И лишь тогда упал — сперва на землю, а потом во тьму. Эх, Гастон, Гастон, племянничек чёртов! Так ведь с чокнутого много ли возьмёшь? Не то прославить хотел дядюшку убийством, которое на весь мир прогремит, не то покарать за отказ баллотироваться во Французскую академию… Бред, словом. Вконец свихнулся парень. В наказание за какие же грехи даются нам дети? Что Гастон у братца Поля, что собственный Мишель…
Первую пулю, из плеча, извлечь удалось, но вот вторая застряла в берцовой кости, обрекая Жюля на пожизненную хромоту и боль при каждом шаге. И всё равно это были цветочки. Про ягодки же лучше не вспоминать. Они сыпались из году в год, пока ноша не стала непосильной. Головокружения — от них стены даже узкого коридора начинают вести себя странно, то вдруг отъезжая в сторону, то неожиданно преграждая путь. Подагра, превращающая все суставы в узловатое дерево, внутри которого вместо соков течёт боль. Пальцы правой руки скрючило артрозом так, что ручку с пером приходилось прибинтовывать. Хронический бронхит, дающий по нескольку вспышек в год — горячка первых двух дней и всё время кашель, кашель, кашель, не дающий ни есть, ни говорить, ни дышать, его не унять ничем, кроме игольчатых кристалликов кодеина, растворённых в воде, или лауданума, но и то, и другое туманит мозг, а ему с каждым годом и так всё труднее работать. Нарастала глухота — но отчасти она являлась даже благом: можно не слышать (или делать вид, будто не слышишь) речей дражайшей Онорины. А ещё — постоянные судороги. И всё падающее зрение — катаракта, из-за которой писать и читать приходилось уже не в очках, но с мощной лупой. Да что там читать — даже при свете дня окружающий мир обратился в нечёткие контуры, наподобие тени Гастона тем весенним вечером. И диабет — уж это всякий знает, не сахар.
Без малого два десятка лет медленного, неуклонного умирания. Зачем же бояться быстрого?
Тем не менее, Жюль всеми тающими силами оттягивал уход до последнего. Не из любви к жизни — что уж тут любить? и кого? те, кого он действительно любил, давно ждали его там, за гранью. Но оставался долг. Мишель, сын — кровь, наследник, продолжение рода, пусть и кривое колено. Мишель — и его долги.