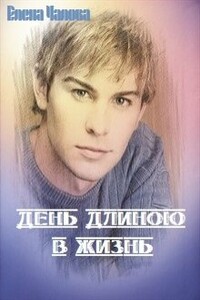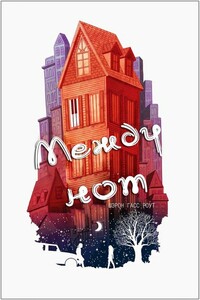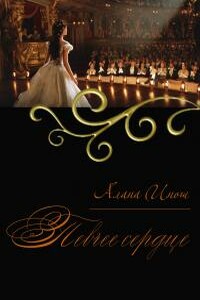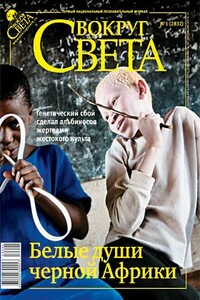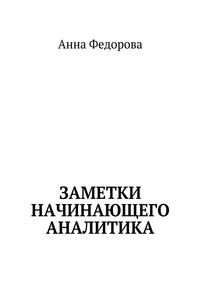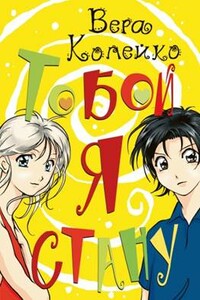Катерина Николаевна куталась в сине-белый шерстяной плед. Она не знала, как унять дрожь, которая заставляла ее мелко-мелко трястись. Будто у нее болезнь Паркинсона в последней стадии — ходуном ходит туловище, руки, голова, плечи, а главное — мозги. И ты видишь не то, что есть на самом деле. Ты готова поверить в небылицы. Впрочем, какие глупости — в ее возрасте такой болезнью не болеют. Слишком рано. Она же не дедушка самой себе.
Да как она могла — хотя бы на секунду — поверить, что ей сообщили о нем? Что Леший умер на самом деле, да еще семнадцатого октября? Это знаковое число для всякого Лешего!
По старинному поверью, именно в такой день осени, на Ерофея, Леший — полноправный господин леса. Никто из мудрых людей туда носа не сунет — в неистовстве, взбесившись, Леший ломает деревья, гоняет зверей, а потом в изнеможении проваливается под землю… Но не умирает.
Катерина Николаевна поежилась, вспоминая собственное отчаяние, когда услышала новость… Верно, что страх парализует мозги. Могла бы и тогда подумать, что на самом деле ей сообщили. Умер Алекс. Муж Шейлы Вард, англичанки, с которой она знакома по долгу службы.
Так почему она решила, что умер Леший? Могла бы привыкнуть: дурачить людей, исчезать, томить ожиданием, а потом р-раз! — и объявиться как ни в чем не бывало — это его любимое занятие.
Катерина Николаевна, зябко закутавшись в плед, силилась вспомнить, что делала в теперь уже давний осенний день. Что чувствовала, и чувствовала ли вообще что-то особенное? Хорошенькое дело — нырнуть в определенный день своего прошлого. А зачем ей напрягаться и думать?
Она высунула руку из-под пледа и потянулась к столу. Пальцы впились в желтый хвостик закладки темно-синего ежедневника и потащили. Открыла и пролистала ежедневник в обратную сторону.
По ее четким записям можно восстановить всякое телодвижение в любой день. «Впрочем, нет, не каждое, — осадила она себя. — Будь честной. Некоторые телодвижения… не обозначены… Те, которые совершались… вместе с Лешим, но не здесь…»
Вот, нашла она, семнадцатое октября. Она ходила на концерт в Большой зал консерватории. Ее осчастливили — подарили пригласительный билет на два лица, она взяла с собой племянницу Сашу. Да и как не взять — ажиотаж на всю Москву, играл пианист, мировая знаменитость, имя которого — особый знак. Стоит произнести его между прочим, без всякого восторга на лице: мол, слушала Первый концерт Чайковского в его исполнении, — и ты причастна к кругу обласканных самой Судьбой.
Именно такие неспешно прогуливалась в фойе перед концертом, подставляя лица друг другу с одинаковым выражением, которое читалось безошибочно: узнай меня. Даже в тот момент, когда громкими голосами они бросали в пространство: «энергетика личности», «посадка головы»… «сильная кисть», — в лицах ничего не менялось.
Саша, улыбнулась Катерина Николаевна, охотно отвлекаясь от главной мучительной мысли, вела себя как большой щенок, которого запустили с пятачка молодняка на большую площадку для взрослых.
По случаю концерта племянница нарядилась в черный брючный костюм, который они вместе выбирали в весьма приличном магазине — из тех, где не надо, разглядывая вещь, сводить брови, кривить губы и думать: а эта модель какого сезона? Там все как надо: вещи нового сезона — направо, старого — налево, но со скидкой. Они сразу повернули направо.
Саша жмурилась от взглядов в фойе, но причина заключалась не только в новом наряде — высокая, тоненькая девушка восемнадцати лет, с кудрями, похожими на спутанный клубок медной проволоки, искрящейся в свете старинных люстр, не могла остаться без внимания. Когда в нее впивался чей-то жадный взгляд, Саша хватала тетку за руку и шептала:
— Кто это? Я его где-то видела… Может, в телевизоре?
— Он тебя тоже, — шептала в ответ Катерина Николаевна. — Думает, там же…
Дрожь понемногу проходила — Катерина Николаевна знала себя: главное — вовремя перевести, как она называла этот процесс, стрелку мыслей. Что она и делала — думала не о себе, а о Саше.
Концы пледа слегка разошлись, верхний край приподнялся выше подбородка, а нос уткнулся в колючую овечью шерсть. Этот плед ей подарили «дорогие подруги» — женщины из Шотландии. Она шмыгнула носом и уткнулась поглубже — нет, таким пледом нос не вытрешь. «А хвостом шакала вытрешь?» — возник в голове дурацкий вопрос. Вчера две гостьи их комитета, две индианки из племени чибча, которых она угощала чаем в комнате для приемов, перебивая одна другую, уверяли, что самые первые в мире носовые платки появились у их предков. Это были хвосты шакалов.
Катерина Николаевна улыбнулась, отбросила плед и протянула руку к коробочке с салфетками. Выдернув одну из плотной стопки таких же, в сине-белый горошек, приложила сначала к глазам, потом к носу. Не важно, от чего именно остался влажный след на мягкой рифленой бумаге, отмахнулась она, желая сосредоточиться на другом.
Мысль вынырнула внезапно, словно спешила убедить ее окончательно — причин для влаги нет. Их и не было. «Ты ведь помнишь, — уверяла она себя, — когда мировое светило играл Шопена, сонату номер два, ту ее часть, которая — средоточие печали, ты думала о Лешем как о живом? Никакая смертельная тоска не перехватывало горло».