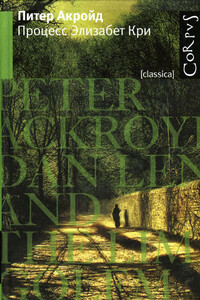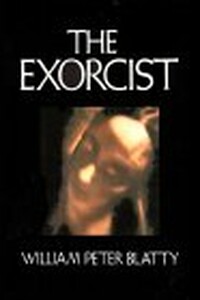Он размышлял над вечной проблемой смерти, над ее бесчисленными и жестокими проявлениями. Перед его мысленным взором возникали то кровожадные ацтеки, вырывающие из человеческой груди еще бьющееся сердце, то искаженные в муках лица раковых больных, то младенцы, похороненные заживо. Он решил было, что Бог жесток по своей сути и ненавидит человека. Тогда он вспомнил о другом мире, пронизанном гением Бетховена. Красочная и многогранная Вселенная, где по утрам звенит песня неугомонного жаворонка, где торжествует Карамазов и где все и вся согревается добротой. Он вглядывался в поднимающийся над Капитолием диск солнца, прочертивший на поверхности Потомака оранжевые полосы. И тут взгляд его упал на землю. Туда, где у его ног покоилось очередное доказательство бесконечного насилия и жестокости. Какая-то чудовищная размолвка произошла между человеком и его Творцом. И вот теперь он стоит здесь, на пристани, и созерцает весь этот кошмар.
– Лейтенант, по-моему, они его нашли.
– Не понял, кого нашли?
– Молоток. Они нашли молоток.
– А, молоток. Хорошо.
Киндерман с трудом возвратился к действительности. Он глянул в сторону и заметил, что эксперты по Хлебной медицине уже собрались. Они подходили поодиночке: одни тащили кучу каких-то склянок, пинцетов, пипеток, другие же держали в руках фотоаппараты, блокноты и мел. Их приглушенные голоса были еле слышны, как будто эти люди сочли за благо не разговаривать, а перешептываться между собой. Однако в большинстве своем, они вообще предпочитали помалкивать. Даже движения их были какими-то беззвучными. Бесцветные и размытые силуэты – явились они словно из сновидений. Где-то поблизости урчала речная драга.
– Кажется, вот-вот закончим, лейтенант.
– В самом деле? Правда?
Прищурившись, Киндерман поежился от утренней прохлады. Полицейский вертолет только что закончил поиск и теперь медленно удалялся, подмигивая красными и зелеными огоньками над мутной, грязновато-коричневой холодной водой. Следователь задумчиво наблюдал, как он постепенно уменьшается. Вертолет таял в лучах восходящего солнца, словно сгорающая надежда. Киндерман прислушался, слегка склонив набок голову, и, дрожа от холода, поглубже запихнул руки в карманы пальто. Женский крик, такой пронзительный и леденящий кровь, все не стихал. Этот крик разрывал Киндерману сердце, да и изогнувшиеся, растущие по обоим берегам стылой реки деревья тоже, казалось, мучаются, страдая вместе с женщиной.
– О, Иисус! – мысленно воскликнул Киндерман. Затем взглянул на Стедмана. Почти касаясь коленом земли, патологоанатом сидел на корточках возле грязной и запятнанной простыни из грубой ткани. Нахмурившись, он уставился на нее и о чем-то сосредоточенно думал. Стедман застыл словно изваяние. Лишь по белому облачку дыхания, которое тут же растворялось в морозном воздухе, можно было определить, что патологоанатом жив. Внезапно Стедман поднялся и бросил на Киндермана странный взгляд.
– Вы узнаете эти порезы на левой руке жертвы?
– Что именно вы имеете в виду?
– Порезы расположены необычно.
– В самом деле?
– Да, мне так кажется. Они напоминают символ одного из зодиакальных знаков. По-моему, это символ Близнецов.
Киндерману вдруг показалось, что сердце у него перестало биться. Он глубоко вдохнул. Потом взглянул на реку. За массивной кормой драги появилась байдарка – это приступала к утренней тренировке команда Джорджтаунского университета, – лодка в полнейшем безмолвии скользила по водной глади. Вот она мелькнула в последний раз и тут же исчезла под мостом. Сверкнула вспышка фотоаппарата. Киндерман опять взглянул себе под ноги, туда, где лежала эта грубая, холщовая ткань.
«Нет, этого не может быть, – рассуждал он про себя. – Этого просто не может быть».
Патологоанатом проследил за взглядом следователя, и его покрасневшая от мороза рука потянулась к воротнику пальто: он вцепился в него, ежась и дрожа от холода. Сейчас Стедману более чем не хватало шарфа. Собираясь сегодня на работу, он в этой чудовищной спешке забыл прихватить его.
– Какой жуткий день для смерти, – тихо произнес Стедман. – Все это так неестественно.
Киндерман дышал с присвистом, белый пар облачком клубился возле его губ.
– Любая смерть неестественна, – пробормотал он. Кто-то создал этот мир. Что ж, вполне разумно. Почему глазу приятны его формы? Чтобы смотреть и все видеть? А для чего это он должен все видеть? Чтобы выжить? А зачем он должен выживать? Почему? И еще раз – почему? Этот детский вопрос вставал каждый раз там, где возникали туманные и зыбкие очертания новой загадки. А вопросы эти искали ответа, однако разум не находил его, напротив, он путался в тупиках лабиринта. И чем дальше, тем глубже верил Киндерман в то, что материалистическое восприятие Вселенной явилось, пожалуй, самым величайшим заблуждением нынешней эпохи. Киндерман верил в чудеса, но и здесь пытался найти им объяснение; он вполне Допускал бесконечную последовательность случайных совпадений, а любовь или же проявление человеческой воли мог свести к элементарным механическим и химическим реакциям, протекающим в нейронах мозга.