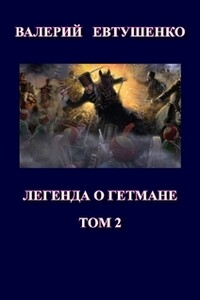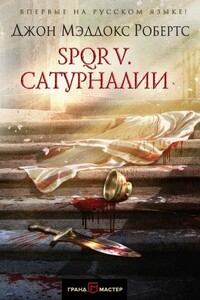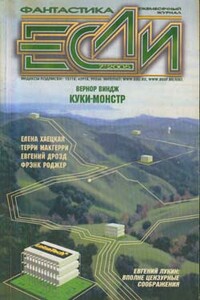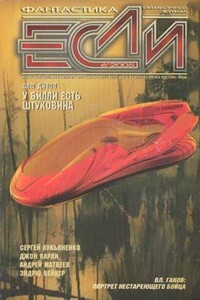Глава первая. Король и хан
Несмотря на позднее время, в польском лагере никто не собирался ложиться спать. Жолнеры[1], смертельно уставшие после тяжелого дневного боя, лихорадочно рыли рвы, копали шанцы и возводили валы по периметру наспех сооруженного лагеря. То там, то тут слышался стук топоров — это оборудовали брустверы для орудий или устанавливали частокол. Краковский староста[2] Любомирский, князь Корецкий, литовский подканцлер[3] Сапега и другие военачальники находились среди солдат, порой даже сами брались за лопаты, чтобы личным примером подбодрить своих воинов. Сам коронный канцлер Оссолинский, потерявший в бою одного из своих племянников, старался скрыть охватившее его горе, объезжал лагерь, подбадривая жолнеров грубоватыми солдатскими шутками. Над оборудованием лагеря трудились все, даже легкораненые брали в руки лопату и спускались в ров. Из полевого лазарета, который не мог вместить всех тяжелораненых солдат и многие лежали просто на земле, ожидая врачебной помощи, доносились глухие стоны. Сюда же сносили и тела погибших, укладывая их друг на друга. Их были тысячи, а сколько еще оставалось лежать за Гнезной у Зборова…
Польский лагерь был разбит в излучине между полноводной Стрипой и ее притоком болотистой речушкой Гнезной, отделявшей его от Зборова, расположенного на той стороне. Там оставался гарнизон из 400 драгун, которые пока еще оборонялись на городских улицах от конницы Хмельницкого. Правда, серьезных попыток занять Зборов казаки еще и не предпринимали. Напротив лагеря поляков в полумиле от него расположил своих грозных татар Ислам Гирей. Всем было понятно, что королевское войско оказалось в западне: форсировать разлившуюся Стрипу под огнем противника нечего было и думать, за Гнезной стояли казаки, а дорогу к Збаражу преграждала татарская конница.
В своей палатке за столом, обхватив руками голову, сидел король. Его черная шляпа, украшенная страусиным пером с крупным бриллиантом, лежала небрежно брошенной на походной кровати, верхние пуговицы тканного серебряной и золотой нитью черного бархатного камзола расстегнулись, будто Яну Казимиру не хватало воздуха. Лицо его поражало своей бледностью, а на лбу выступили капли пота.
— Все пропало! Бедная Отчизна, что с ней будет! — шептал он. — Нет, лучше погибнуть, чем стать свидетелем этого позора!
Ян Казимир не был трусом или малодушным человеком. Подобно отцу и старшему брату, он не уклонялся от военных походов, хотя, как один из иерархов церкви, войну не любил и стремился возникающие конфликты урегулировать мирными средствами. По характеру он был скорее добродушным, чем жестким и в своем письме Хмельницкому перед избранием его королем был совершенно искренним. Если бы в Речи Посполитой все зависело только от его воли, то он все свои предвыборные обещания, данные запорожскому гетману, исполнил бы без колебаний. Однако магнаты, с мнением которых он не мог не считаться, категорически выступали против каких-либо уступок «хлопскому быдлу», а в свою очередь Хмельницкий, выпустив «джинна» народной войны из бутылки, не мог, да и не хотел возвращать его обратно. Поэтому спустя девять месяцев после ухода армии запорожского гетмана от Замостья, разразилась новая война…
— И вот теперь все потеряно, все погибло, — в отчаянии повторял король, — мы зажаты в смертельной западне между полчищами казаков и татар, цвет войска потерян при переправе, осажденным в Збараже грозит смерть. Впрочем, это все же лучше, чем вечный позор!
Ян Казимир, как, наверно, никто другой осознавал всю опасность сложившейся ситуации. Ведь, кроме хоругвей[4], находившихся под его командованием здесь под Зборовом и тех, что оборонялись в Збараже, на границах Речи Посполитой не оставалось больше войск, способных противостоять Хмельницкому, вздумай он двинуться на Варшаву. А то, что и крымский хан, и запорожский гетман именно так и поступят, у короля не было ни малейшего сомнения.
— Бедная Отчизна, — вновь и вновь повторял он, как заклинание, — какие же тяжкие испытания тебя ожидают! Неужели тебе суждено погибнуть от рук взбунтовавшихся хлопов?
Мысленно он опять возвращался к событиям последних дней, словно пытаясь обнаружить, в какой же момент им была допущена ошибка, приведшая его войско в такое тяжелое положение.
— Нет, моей вины в том, что произошло нет, — вновь и вновь повторял про себя Ян Казимир, — если бы все паны собрались со своими надворными хоругвями у Сокаля вовремя при объявлении посполитого рушения[5], такого позора не случилось бы…
…Действительно, получив известия о том, что Фирлей, Лянцкоронский, Остророг, Вишневецкий после неудачного весеннего наступления на казацкие территории оказались разгромленными и вынуждены были укрыться в Збараже, где их настигла огромная армия Хмельницкого и крымского хана, король объявил о созыве всеобщего ополчения в трех воеводствах Малой Польши. Зная привычку панов не особенно торопиться на подобные мероприятия, он с одним только 25-тысячным кварцяным войском[6], в начале июля выдвинулся к Сокалю, который назначил местом сбора надворных панских команд. Отсюда Ян Казимир намеревался выступить в направлении Збаража на помощь осажденным, однако несколько обстоятельств препятствовали осуществить это намерение. Прежде всего, посполитое рушение собиралось крайне неторопливо, так что к концу июля к Сокалю подошла лишь небольшая его часть. Дальнейшее ожидание становилось бессмысленным и король с теми силами, что имелись в его распоряжении, начал выдвижение на помощь 9-тысячному гарнизону Збаража. Однако, получить сколько-нибудь достоверные сведения о том, что происходит в осажденном городе, полякам не удавалось. Не было даже уверенности в том, что Збараж еще не взят штурмом и ни от кого из местных жителей нельзя было добиться сведений о местонахождении Хмельницкого и татар. Наконец, передвижение королевского войска чрезвычайно замедляли разливы рек и речушек, которых в этих местах было великое множество.