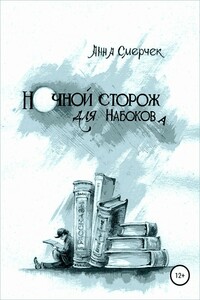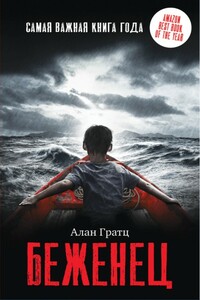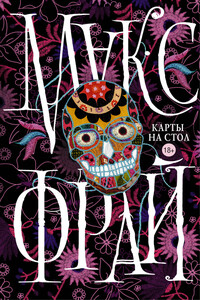Подхваченная цепкими лапами невидимой птицы мышка выжидала. Она уже проделала всё, что требовалось в этой ситуации: она билась за свободу, трепетала, извивалась в когтях врага, она изо всех сил изворачивалась и судорожно, до крови и ран, дёргалась. Она делала это ровно столько, сколько бы боролась за себя любая другая мышь. И потом замерла. Она бессильно повисла, давая знать, что силы исчерпаны, что тельце её обессилело и отчаялось. Она всё делала так, как делала бы простая мышь в жуткой ситуации пойманности. А теперь она ждала признаков своей победы: поймавшая её птица должна была поверить в отчаяние и сломленность жертвы.
Они летели высоко.
По чистому небу медленно катилось оранжевое светило. В его лучах бескрайние леса казались зелёным океаном.
Ветер прогуливался широко по вершинам деревьев, и тёмно-зелёное море волновалось.
И вот подтверждение обнаружилось. Враг поверил: хватка когтей ослабла, полёт стал ровнее и тише.
Внизу, среди неоглядной зелёной пучины мышка заметила пятнышко, которое быстро росло. Уже просматривался серенький пятачок с маленькой избушкой.
"Пора", - решила мышка и произвела жуткий неведомый свист, в этот же момент она рванулась всем телом, как-то сократив его, чтобы выскользнуть из оцепеневших когтей, и низринуться в бездну.
Птица спохватилась только тогда, когда мышка уже приближалась к верхушкам деревьев.
"Ещё одна победа", - не забыла отметить мышка, позволяя листве замедлять падение расслабленного тельца.
Островком, который высмотрела мышка в своем невольном полёте, оказалась большая поляна, некогда приспособленная для обитания. Обитателями были дед да баба. Жили они, были... И чем дольше они жили, тем больше БЫЛИ, нежели жили. И была у них курочка Ряба. Она появилась как бы из неопределённости - обрелась, словно пригрезилась. А с ней явились хлопоты, сонно-морочные заботы.
Дикое подворье, окружённое со всех сторон непролазным лесом, больше походило на пустырёк, с заросшим напрочь огородом, с сухой яблонькой против дома. А под яблонькой хоронилась лавка - плод безумного рукоделия деда, которую прежде бабка норовила поливать, принимая за клумбу. Однако не поливала, по забывчивости. Но забывчивость её относилась не к тому, что лавка была клумбой в её ощущениях, а к тому, что дед уже давно перестал ругать бабку и поливать лавку можно было бы совершенно беспрепятственно. И каждый день.
Дед был тих и пребывал словно бы в неотступном обмороке, отчего и бабка, и предметы, и весь мир вроде бы изошли в иное пространство. В то пространство, где деда не было.
Бабка же обреталась в третьем пространстве: в первое, где хмырел дед, она почти не просовывала свой интерес, во второе пространство, где канителился весь прочий мир, она вовсе не заглядывала, но изредка тревожно к нему прислушивалась. В третьем мире она жила повседневно и с неприязнью очень глубокой. Так было всегда.
С появлением курочки Рябы нечто сдвинулось в дедо-бабковом житьи-бытьи. Этим "нечто" навсегда могла испоганиться жизнь курочки Рябы, это "нечто" - отдалённо напоминало чадолюбие. Из этого "нечто" можно было бы предположить - что и делала курочка - желание стариков иметь деточек. Потому, что всю жизнь у них это не получалось: не было ни навыка, ни умения, ни ещё чего-то такого, что чарует тайной семени, и глухое слово "быть" заставляет звенеть животворным словцом "жить".
И когда обрелась курочка Ряба, дед славопесенно учуял дыхание жизни. Он ловил Рябу и сажал на яйца. Сажал и ждал. Курочка поначалу никак не могла привыкнуть к такому повороту и часто, улучив момент, тихо упархивала прочь. Приходилось искать её и снова водворять на место. Затея осложнялась тем, что дед, пригревшись, часто излетал в дрёму. Приходя в себя, спохватывался и глындливо ругая себя, начинал искать по закоулкам неверную птицу.
Старуха как бы не замечала этого. Ей что-то подсказывало, что курочка и есть тот долгожданный младенчик. Некогда в юности она видела, как матери кормят своих дитятей. И так глубоко она в себя приняла дивное событие, что все вымороченные воспоминания её жизни собрались в одном искро-точечном фокусе: отыщет она курочку, грудь свою сушёную мигом наружу - и клюёт старая своими синими сосками, тычет в куриный клювик. И приговаривает: "На, чадушко, на, любимое, кормись, дитя малое, кормись, дитя неразумное".
Иногда старуха находила Рябу на стариковых яйцах и, не замечая деда, вынимала, словно из люльки, чтобы накормить своё любимое. В пространной дрёме дед давал старухе эту сладкую возможность. А бодрствуя, от шалой невменяемости старухи впадал в трепетную бессловесную угарность, в которой недвижно пребывал долгое время. Всё шло тихо в потусторонней молчаливости.
Вот куда попала мышка.
Когда курочка Ряба впервые заметила мышку, она не поверила своим глазам. Она не подозревала, что могут быть такие мыши: ни шустрости, ни тревожности. Пушисто-дымчатая серость отливала лёгкой сталистостью. В целом мышка больше напоминала облачко, нежели существо живое. Мышка не искала, но и не избегала общения. Курочке же очень хотелось с ней познакомиться, да только повода для этого она не находила.