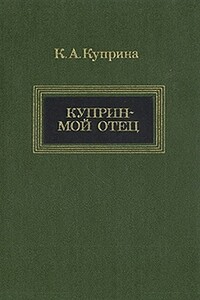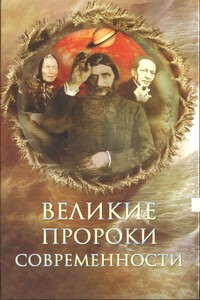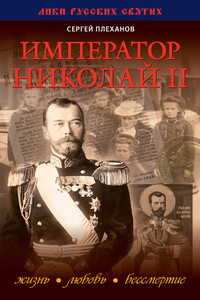Когда поезд, увозивший моих родителей на родину, двинулся, мне поневоле пришлось разжать руки, державшие руки моего отца. Я еще долго стояла одна на перроне парижского Северного вокзала. Что-то во мне оборвалось, я почувствовала, что вижу родителей в последний раз, и, несмотря на теплый день, меня охватил озноб.
Я не поехала с родителями по многим личным причинам.
В душе у меня двоилось. Я была счастлива, что отец мой в конце своей многострадальной жизни обретет то, о чем он уже не смел мечтать: покой, прощение, любовь своего народа. Он так страстно тосковал по родине в течение семнадцати лет.
Чувство родины для нас, второго поколения эмигрантов, то есть для тех, кто был вывезен детьми, — конечно, совсем другое, чем у родителей, потерявших свой дом, свой язык, привычки, воспоминания молодости и всей сознательной жизни, — словом, потерявших всё.
Мы же, второе поколение, уже учились на чужбине. Обычаи, язык той страны, где мы находились, были большинством из нас полностью освоены. Но, несмотря на это, мы всегда чувствовали себя иностранцами, живущими из милости, и если порою и забывали об этом, то нам напоминали дети — в школе и администрация — ограничениях работы. Так, прожив тридцать восемь лет в Париже, я считалась иностранкой. У меня не было паспорта, а только удостоверение личности, оно же и вид на жительство, в котором, как клеймо, стояло слово «Apatride» (без родины).
Первое яркое чувство родины у меня проснулось, когда во время немецкой оккупации в Париже я увидела на улицах и в метро множество людей с газетами в руках, где жирным шрифтом в передовой было напечатано слово «Москва». У меня потемнело в глазах, и я заплакала от ужаса, вообразив, что немцы извещали о взятии Москвы. Впоследствии я уже всем сердцем следила за успехами Красной Армии.
Простые французы, слушавшие под секретом и с большим риском иностранное радио, часто говорили мне с ликованием: «Ваши-то держат Сталинград!», «Ваши-то гонят немцев! Молодцы!»
И я гордилась «своими».
Второй раз я снова почувствовала себя не только русской, но и советской, за несколько дней до освобождения Парижа от оккупантов.
Париж тогда представлял довольно странную картину. Ветер вздымал столбы пыли, мел бумаги, газеты, трепал полуоборванные гитлеровские плакаты и лозунги. Из особняков спешно грузили ворованные картины, ковры, мебель.
По улицам иногда маршировал немецкий патруль человек в двадцать, состоявший из стариков и подростков, одетых явно не по росту.
С визгом из переулков выскакивали машины, за которыми гнались другие, перестреливаясь на дикой скорости. Уже совсем близко бабахали тяжелые орудия.
Носились тревожные слухи о том, что немцы, уходя, взорвут Париж. Население застыло в тяжелом ожидании.
Но Париж пощадила война, его почти не бомбили.
Впоследствии мы узнали, что коменданту Парижа Дитриху фон Хольтицу был дан приказ взорвать столицу при отступлении. (Не успев покинуть город, он вместе со своим штабом сдался 26 августа.)
В ночь на 25 августа вдруг воцарилась удивительная тишина, которую приблизительно в полночь нарушил далекий одинокий звук колокола. И сразу зазвонил телефон. Электричество и газ давно были выключены, но телефон почему-то действовал. Всю ночь Париж перезванивался; все поздравляли друг друга с освобождением. Спать никто не мог.
Утро выдалось прекрасное, солнечное. Все население высыпало на улицы. Все бежали в направлении Триумфальной арки, бежали с радостными лицами, букетами, целовались, жали друг другу руки. Побежала и я. Первыми вошли в Париж части генерала Леклера, за ними американцы, канадцы, англичане. Мы услышали гул, а потом наконец увидели танки и бронемашины, забросанные цветами.
Лица, руки, рубашки бойцов были сплошь в красных отпечатках губ восторженных парижанок. Толпа становилась все гуще и гуще. Вдруг среди общего ликования с крыш застрочили пулеметные очереди. Тачки и бронемашины застопорили и подняли стволы орудий к небу. На крышах прятались гитлеровские прислужники, которых немцы не взяли с собой. Они нашли там последнее убежище и, зная свою участь, мстили союзным войскам и толпе. Дней десять за ними охотились в лабиринте парижских крыш. Много мирных граждан погибло от шальных пуль в этот радостный день.
Возвращаясь домой по красивой авеню Булонского леса, я увидела, что дома расцвечены флагами: французскими, английскими, американскими, бельгийскими… Но советских флагов в этом районе богачей нигде не было. Эти люди забыли о самоотверженной борьбе Советской Армии, забыли или хотели забыть, чем они обязаны Советскому Союзу.
Мне стало обидно. Дома я наспех распорола широкую красную шерстяную юбку, нашила на нее желтые серп и молот, воспроизведя, может быть, не совсем точно, советский флаг, и водворила его на окно.
Простые французы, рабочие, проходя мимо, улыбались и кричали: «Браво!»
В пригородах и рабочих кварталах этот флаг не был забыт.
Когда окончилась война, я стала разыскивать свою мать, оставшуюся в Ленинграде после смерти отца в 1938 году, надеясь, что она пережила блокаду. Но я узнала, к своему горю, что она покоится рядом с ним на Волковом кладбище.