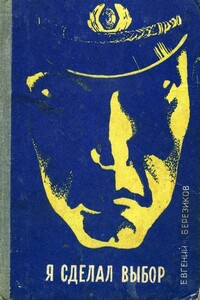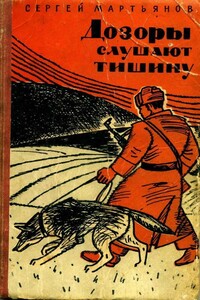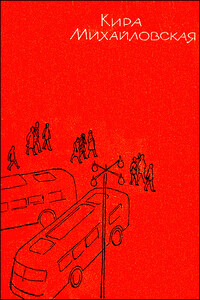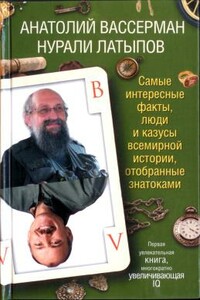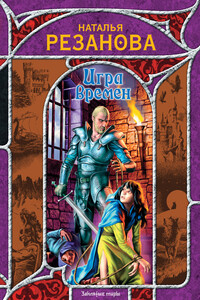— Спасибо, вы… первым приехали, — тихо произнесла Светлана Тарасовна Шатайкина, молодая смуглолицая женщина в накинутом на голову траурном кружевном шарфе, встретив меня в библиотеке сельского Дома культуры.
Ветер, проникший в распахнутое окно, шевельнул на столе газету с портретом в черной рамке. Светлана Тарасовна поджала дрогнувшие губы:
— Не стало Николая Васильевича… вчера… Завтра привезут сюда… хоронить…
— Но что с ним?.. Отчего он умер?
Светлана Тарасовна скорбно повела головой.
— Отчего же умирают фронтовики?! — не то переспросила, не то упрекнула она меня в наивности. — Вот и он… умер, хотя… Нет, не то это слово «умер». Ему бы жить и жить! А тут…
Она подошла к окну, устремила взгляд на вершину кургана, утопающую в сизом потоке полуденного марева.
— Мы похороним его вон там…
Глухо пробили где-то за книжными стеллажами настенные часы. Показалось, они пробили трижды, и их звон проник мне в самое сердце: три года назад я впервые появился там, куда смотрела сейчас Светлана Тарасовна, с которой тогда состоялось у меня не совсем приятное знакомство.
— Вот так, — как бы в ответ моим мыслям глухо донесся до меня ее голос.
Она вдруг обернулась ко мне. Глаза ее увлажнились.
— Не надо плакать, — отозвался я.
Светлана Тарасовна помолчала, словно все еще не решаясь сказать что-то очень глубоко скрытое от меня, и произнесла чуть слышно:
— Да-да, не надо плакать… Теперь уж все равно… Сказать по правде, он говорил, что у меня глаза как две черные терновники после дождя. Такое случалось со мной: нет-нет да и поплачу от тоски и одиночества… А он ведь и сам был одинок. Впрочем, что это я?.. — Голос ее обрел проникновенность. — Да-да, я любила его! И люблю… Уж кому-кому, а вам-то известно, что я могла быть… его дочерью. Могла бы стать и женой. И сегодня это у меня, как вчера.
Я не то чтобы удивился, что на свете есть особенная любовь этой женщины, но при последних ее словах ощутил такую радость, от которой сердце мое забилось легко и ровно.
Сегодня, как вчера… Вчера и сегодня!
Всякий раз, когда мы встречались, он рассуждал примерно так: «Что такое «вчера и сегодня»? Интервал так себе, считай, сутки — ровно восемьдесят шесть тысяч и четыреста секунд. За это время, скажем, скоростной самолет пролетит не менее двадцати тысяч и двухсот километров. Скорый поезд Москва — Киев простучит в два конца. И даже твоя древняя машиненка, при средней скорости километр в минуту, забросит пассажира на тысячу четыреста сорок километров…» Он полюбился мне с той самой первой встречи, три года назад. Тогда я «забросил пассажира», то есть его, к кургану, у подножия которого уже сегодня вырыта могила, чтобы завтра этот человек навсегда скрылся в ней.
Светлана Тарасовна сказала:
— Николай Васильевич позавчера позвонил мне из больницы, попросил, чтобы я привезла ему томик Ленина. Вчера я привезла, но… немного опоздала. Какие-то минуты!.. Я знаю: это из-за меня. Была бы я рядом, я бы успела дать ему нитроглицерин. Я бы… Я бы вдохнула ему свою жизнь…
Я подумал: может быть, это сон?! Все — сон: телеграмма о смерти друга, получив которую, я тут же сел в свою «древнюю машиненку» и повел ее со скоростью, как он говорил, превышающей все моральные возможности; и черный кружевной шарф на голове Светланы Тарасовны; и сам я — рядом с ее безутешной печалью. Я хотел бы, чтобы это было так, если бы она еще не сказала, как ей стало страшно, когда она увидела Николая Васильевича мертвым…
Вокруг нас залегла такая тишина, в которой вдруг неимоверно громко стали раздаваться звуки маятника настенных часов, неумолимо отсчитывающих дольки времени среди стеллажей с книгами уже умерших и еще остающихся жить авторов…
Мы молчали долго и тяжело…