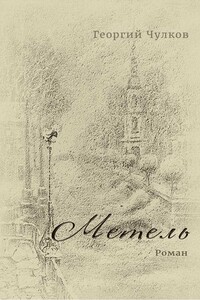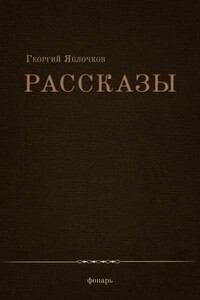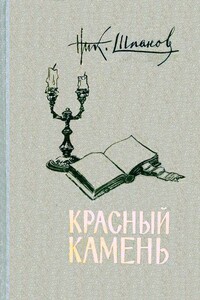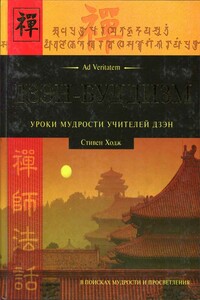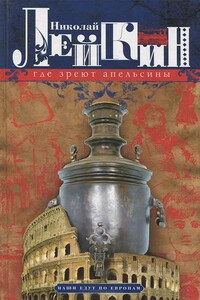Утро. Въ мясной лавкѣ тароторятъ другъ съ дружкой о томъ, о семъ кухарки, пришедшія за мясомъ, и, разумѣется, ругаютъ хозяекъ. Мясники въ грязныхъ отъ крови и сала передникахъ рубятъ говядину для покупательницъ. Паренекъ-подростокъ принимаетъ деньги за стойкой и сдаетъ сдачу. Около стойки слышенъ кухарочій возгласъ:
— Пять копеекъ съ тебя, паренекъ… Давай, давай… Не зажиливай… Нечего тебѣ хозяина-то своего беречь. Не кумъ онъ тебѣ, ни братъ, ни сватъ. А ужъ кухарки безъ халтуры невозможно…
— Да вѣдь ты вчера двѣнадцать копеекъ не додала, — улыбается мальчикъ подростокъ.
— Вчера одна покупка, а сегодня другая. Вчера отъ рубля двѣнадцать копеекъ, а сегодня пятачокъ отъ полтины. Это на помаду и на кофей. Самъ, вѣдь, знаешь, что какое кухарочное положеніе. Давай, давай. Не стыдись.
— Дѣлать нечего… Получите пятачокъ. А только, какой вы строгой жизни, госпожа кухарочка!
— Будешь съ вами, чертями, строгъ, когда вы правиловъ не знаете! Анисьюшка! Анисья Матвѣевна, голубушка! Здравствуй, мать моя! Какими ты здѣсь, ангелка, судьбами?
— Здравствуй, Дарья Силантьевна.
Чмокъ, чмокъ — и двѣ кухарки расцѣловались. Одна была черноволосая въ сѣромъ байковомъ платкѣ на головѣ и съ усиками надъ верхней губой, другая — рыжая, скуластая и въ темно-желтомъ платкѣ съ разводами.
— Какимъ это вѣтромъ тебя съ Песковъ-то къ намъ занесло? — повторила вопросъ черная кухарка.
— Да вотъ уже третій день живу здѣсь у васъ на мѣстѣ въ угловомъ домѣ. Мой пострѣлъ сюда перебрался, и я съ стараго мѣста соскочила, чтобъ поближе къ нему быть.:
— Подарочекъ-то рождественскій все-таки у хозяевъ слизнула-ли?
— Взяла, взяла. Только подарка и ждала, а то мой пострѣлъ давно уже въ здѣшнихъ мѣстахъ околачивается. Что-жъ послѣ подарка я всѣ святки у нихъ прожила. Я честь-честью.
— Шерстяное платье взяла?
— Шерстяное, и два рубля денегъ на кофей. Я все-таки съ ними по благородному… Я имъ праздники отработала. Гости у нихъ два раза были, такъ я честь честью бламанже даже сдѣлала, — сообщала рыжая кухарка. — Ну, а вотъ здѣшнее-то мѣсто было у меня раньше припасено.
— Не стоитъ баловать-то хозяевъ. И такъ ужъ они… Ну, а я, дѣвушка, также думаю съ мѣста уходить.
— Тоже на другое мѣсто норовишь?
— Нѣтъ, Богъ съ ними, съ мѣстами, покудова. Думаю мѣсяцъ, другой въ своемъ уголкѣ побаловаться.
— Отдохнуть?
— Да чего-жъ мнѣ себя не потѣшить, дѣвушка! Вещи, которыя у меня заложены были, теперь я всѣ выкупила, восемнадцать рублей у меня прикоплено есть, хорошій кусокъ шерстяной матеріи на платье въ сундукѣ лежитъ, на цѣлую подушку я себѣ пера отъ птицы накопила, такъ чего-жъ мнѣ такъ ужъ очень лямку-то по хозяевамъ тянуть! Можно и на своей волѣ пожить. Я всегда такъ… Я семь-восемь мѣсяцовъ на мѣстѣ сижу, а потомъ ужь мѣстомъ не дорожу. Плевать мнѣ.
— Тебѣ хорошо такъ разсуждать, коли у тебя изверга нѣтъ, — сказала рыжая кухарка. — А поговори-ка ты съ моимъ извергомъ.
— Какъ изверга у меня нѣтъ? Извергъ у меня есть, а только онъ самъ по себѣ и не особенно меня тиранствуетъ.
— Ну, да не вышибаетъ.
— Боже избави! Да я сама ему глаза выцарапаю. Нѣтъ, милушка, онъ слесарь, вагонный слесарь, и иногда по два съ полтиной въ день зарабатываетъ.
— Вотъ, ногъ… Скажи, какая счастливая! А я-то сирота!
— И давно-бы мы съ нимъ, дѣвушка, обзаконились, продолжала черная кухарка:- да у него жена въ деревнѣ есть. Хорошій слесарь. Ну, придетъ, возьметъ иногда на похмелье, а такъ, чтобъ силой вышибать — этого у насъ нѣтъ. Онъ даже, вонъ, въ прошломъ году въ Дарьинъ день мнѣ кофейникъ мѣдный принесъ и чашку расписную… «Вотъ, говоритъ, тебѣ, Дарьюшка, въ день ангела».
— Скажи на милость, какой! Это ужъ, значить, человѣкъ обстоятельный! А мой-то, мой-то эѳіопъ какой! На прошлой недѣлѣ, душечка, прямо пришелъ и хорошій платокъ у меня уволокъ.
— Такъ чего-жъ ты такого при себѣ держишь? — спросила черная кухарка.
— Да все думается, что вотъ, вотъ… А только ужь теперь онъ него и не отбояришься. Нѣтъ, не отбояришься. Онъ на днѣ моря сыщетъ.
— Да какое ужь тутъ отбояриванье, коли сама къ нему поближе переѣхала.
— Изсушилъ, изсушилъ, тиранъ! — вздохнула рыжая кухарка и даже отерла слезу. — А ты, Дарьюшка, за сколько у господъ живешь? — спросила она. — Не передашь-ли мнѣ свое мѣстечко, коли собираешься уходить? Можетъ статься, твое-то выгоднѣе;
— За восемь рублей живу, и горячее отсыпное.
— Ну, и я тоже. А я пуще изъ-за помѣщенія думаю уходить. Комнаты мнѣ нѣтъ, и сплю я въ кухнѣ за перегородкой. Придетъ мерзавецъ-то, посидитъ-посидитъ, и некуда его спрятать. Все на юру, все на юру. Войдетъ барыня въ кухню, и онъ передъ ней какъ на ладони.
— У насъ тоже помѣщеніе-то не ахти. Хоть и есть комната, да вмѣстѣ съ горничной.
— Ну, все-таки… Все-таки его можно посадить туда, подлеца, чтобъ передъ хозяйкой-то онъ не торчалъ. Пожалуйста, Дашенька, передай мнѣ это мѣсто, когда уйдешь.
Черная кухарка подумала и отвѣчала:
— Да пожалуй, бери. А только мнѣ еще надо съ барыней поругаться, чтобъ уйти, а то какъ-же…
— Да зачѣмъ-же ругаться-то? Ты честью уходи.
— Неловко, милая.
— Отчего неловко?
— Станетъ уговаривать: «останься, да останься. Чего молъ тебѣ.!» А тутъ сразу… Разругалась — и дѣлу конецъ. «Пожалуйте, сударыня, жалованье и паспортъ». Да ты не бойся. Не долго тебѣ ждать придется. Я скоро… Она ужь сквалыжничать въ провизіи начинаетъ, а я этого терпѣть не могу. Вчера я беру семь фунтовъ ссѣку и приношу семь, а она въ претензіи, зачѣмъ семь, а не пять. «Я, говоритъ, пять приказывала». А мнѣ, говорю, мясникъ семь отрубилъ. Ну, сейчасъ разговоры, ворчанье. А я этого терпѣтъ не могу.