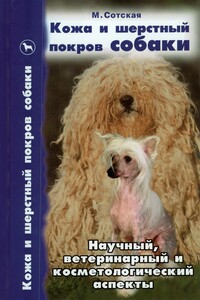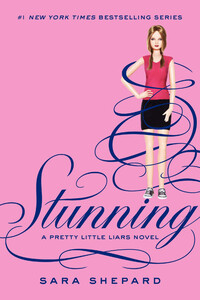Н. А. Мельгунов
Кто же он?
Повесть
Is not this something more than fantasy?
What think you of it?
(Не является ли это чем-то большим, нежели игра
воображения? Как вы об этом думаете?)
Гамлет. I. 1
(Посвящается А. С. Хомякову)
I
Я лишился друга. Знавшие его не могут обвинять меня в пристрастии: то был ангел, ниспосланный на землю и отозванный прежде, нежели что-либо человеческое успело исказить его божественную природу. Стоило взглянуть на возвышенное, всегда восторженное чело его, чтобы прочесть на нем неизгладимое свидетельство его небесного происхождения... Скорбь друзей покойного была невыразима, но из живой и сильной она обратилась постепенно в тихую грусть: печальное и вместе сладостное наследство! Прошло около года после его кончины; наступила весна. Обновленная природа обновила и нас. Сердца наши растворились для радости, миновала и грусть в свою очередь. Житейские удовольствия, мирские заботы стали опять завлекать нас в свои обманчивые сети. Исчезло мало-помалу то невольное самоотвержение, с каким забываешь о себе после великой потери и живешь одною памятью об оной. Но и в этой памяти разве не проглядывает чувство эгоизма, которое следует за всякой несбывшейся надеждой? Однажды, спустя около года после кончины друга, я прихожу в банк и, в ожидании выдачи денег, смотрю на пеструю, движущуюся толпу, которая ежедневно теснится в этом здании. Там встречаются все сословия, начиная от вельможи, закладывающего свое последнее имение, до простого селянина, который кладет в рост избыток своих скудных доходов. Меня развлекало это движение, коего пружиной была потребность денег, денег и еще денег. Двери почти не затворялись; знакомые и незнакомые лица мелькали передо мною: то веселые, то пасмурные, а чаще невыразительные, они появлялись и исчезали, как тени в фантасмагории. Но вот двери отворяются настежь: молодой, осанистый человек величаво сбрасывает с себя плащ на руки лакея и быстро проходит через залу в совет банка. Не прошло пяти минут, мой незнакомец возвратился из совета; я смотрел тогда ему прямо в лицо... то был покойный друг мой! Не помню, как я вскочил со стула и подбежал к нему. Взгляд, брошенный им вскользь на меня, еще более уверил мое воображение, что то был покойник. Я остолбенел, силился промолвить слово - и не мог, хотел кинуться в его объятия - и стоял недвижим. Между тем он был от меня уже далеко; слуга накинул на него плащ, и он вышел из залы, столь же мало обратив на меня внимание, как и при входе. "Нет! Это не друг мой, - сказал я в суеверном недо умении. - Он не прошел бы мимо меня, не пожав мне руки, не сказав приветливого слова. Да и может ли привидение являться посреди дня, в толпе людей? Духи любят мрак и уединение... Но ведь он жилец света; чего же ему остальных людей, своих бывших собратий?" Мои расспросы о незнакомце были на этот раз напрасны: никто из присутствовавших не знал даже его имени и никогда не видал его в сем месте. Любопытство мое возрастало, но я должен был отложить свои разыскания до другого времени.
II
Спустя несколько дней после этой встречи с чудным незнакомцем сижу я в театре. Подле меня одно кресло оставалось долго незанятым. Я положил на него шляпу и равнодушно смотрел на симметрические группы балетчиков и несносно правильные их телодвижения. Вдруг, как бы на крыльях ветра, вылетели на средину сцены Гюллень и Ришард, и громкие рукоплескания встретили сих двух любимцев московской публики. Я загляделся на них и не чувствовал, что порожнее кресло было уже занято, и что шляпа моя сложена на пол. Вольность соседа мне не понравилась; я взглянул на него: то был человек лет тридцати, в очках фиолетового цвета, который, по-видимому, был занят одною сценой и не обращал внимания на окружающих. С досадою поднял я свою шляпу и, отряхая с нее пыль, нарочно задел ею соседа, чтоб за его невежливость отплатить тем же. Но он того и не приметил. - Как хороша! - воскликнул он наконец довольно громко. - Кто? - спросил я, следуя за его очками, обратившимися тогда на соседний бенуар, где сидели знакомые мне дамы. - Эта декорация, - отвечал он хладнокровно. Последние слова были произнесены им совершенно другим голосом, чем первые. Звуки оного поразили меня: то был голос покойного друга! Но я не верил слуху и старался разогнать мысль о сходстве, как обманчивую мечту. Однако взоры мои невольно обратились к ложе с знакомыми дамами. Между ними была девушка лет осьмнадцати, бледная и задумчивая; казалось, она лишь из приличия смотрела на балет и не разделяла общего удовольствия. Читатели поймут ее равнодушие, когда узнают, что последние слова покойного друга к ней относились, что последний вздох его был посвящен отсутствующей подруге. Мне поручил он передать ей этот вздох, эти слова, и я стал поверенным ее серденных тайн. Она любила юношу со всею искренностию первой девственной любви и при жизни его не смела в том ему сознаться. Но горесть исторгла из ее груди тяжкое признание, которое, как увядший цвет, назначено было украсить лишь могилу ее возлюбленного. Я взглянул на девушку; взоры наши сошлись, и легкий румянец покрыл ее бледные щеки. Не желая продлить ее замешательства, я обратился к соседу. - Как находите вы балет? - спросил я у него. - По слухам я ожидал лучшего, - отвечал он пленительным своим голосом, - впрочем, он обставлен порядочно. А как зовут танцовщика? - Ришард; разве вы видите его в первый раз? - Я приехал сюда недавно, после тридцатилетнего отсутствия. - И потому вы должны худо помнить Москву, оставив ее в детстве? - Извините, - отвечал незнакомец с важностию, - я уже долго живу на свете. - Вам угодно смеяться надо мною, - сказал я с некоторой досадой, - судя по лицу, я не дал бы вам и тридцати лет. - Право? А слыхали ль вы о графе Сен-Жермень5? - Что хотите вы сказать? - "Горацио! Много тайного на земле и на небе, чего философия ваша и не подозревает". - Вижу, - отвечал я с возрастающим неудовольствием, что вам знаком Шекспир, но далее ничего не вижу. Вместо ответа сосед мой снял свои фиолетовые очки и пристально посмотрел на меня. Я вздрогнул... Лицо его будто изменилось и помолодело; я узнал в нем юношу, столь разительно сходного с моим покойным другом. - Бога ради, скажите мне... - воскликнул я, вне себя от удивления. Незнакомец прервал меня: "Молодой человек, - сказал он вполголоса, - здесь не место говорить об этом". И, надев свои фиолетовые очки, он стал снова смотреть на сцену. Балет кончился. Я вошел в бенуар, где сидела упомянутая мною девушка. С нею была ее мать, пожилая дама, которая, несмотря на лета, старалась идти наравне с веком Строгая поклонница всего модного и нового, немного болтливая, она была, впрочем, добрая и радушная женщина, чадолюбивая мать и одна из тех рассудительных жен, которые, управляя втайне мужьями своими, позволяют им в публике говорить "я" и пользоваться призраком власти. Она встретила меня кучей вопросов: "Ну, что же наш домашний театр? Вы, верно, будете на первой репетиции? Не правда ли, что мой Петр Андреич счастливо выбрал "Горе от ума"? Все говорят об этой комедии, и между тем она так мало известна Не правда ли, что довольно оригинально выставлять перед нашей публикой ее же предрассудки? Ах, кстати: будете ли вы завтра утром на аукционе? Мы туда собираемся; моей Глафире страх хочется видеть дом и вещи покойного графа". Я спешил прервать ее, однако не знал, на который из вопросов отвечать прежде. - Покупать на аукционе я ничего не намерен, - сказал я наконец, - но если вы там будете... - По крайней мере, для нас приезжайте туда, - прибавила Глафира тихим голосом. - Ну а роль Чацкого, comment va-t-il (Как она идет? (франц))? - спросила у меня Линдина. - Она, право, выше сил моих, - отвечал я. - Не слушаю вашей отговорки, - возразила Марья Васильевна, - завтра вечером репетиция - и вы наши. Мои Петр Андреич играет Фамусова, а Глафира - Софью: это решено. Кстати, что твои глаза? - прибавила она, обратись к дочери. - Что, все еще красны? Вообразите, простудила глаза - и не бережется. Смотри, не три же их. Я знал, отчего красны глаза ее, и что это вовсе не от простуды. Желая прекратить сей разговор, я обратился было опять к роли Чацкого, как вошел в ложу Петр Андреич с веселым, лучезарным лицом. - Сейчас в коридоре я встретил, - сказал он, - одного старого знакомого и сделал важное приобретение. - Что такое? Уж не купил ли подмосковной, которую ты для меня давно торгуешь? - весело спросила Линдина. - Нет, душенька, не то: я отыскал отличного Чацкого, и если только позволите... Последние слова относились ко мне, и я с радостию готов был уступить роль свою, но Марья Васильевна не дала мне отвечать. - Какого Чацкого? - вскричала она. - Разве есть на свете Чацкие? - Не то, душа моя, ты меня не понимаешь. Вот в чем дело: когда я служил в Петербурге, тому назад лет тридцать, то был знаком с одним премилым человеком, не помню его фамилии, и как бы ты думала? Представь: сейчас встречаю его - ест мороженое... - Так что же? - Как что? Узнаю его с первого взгляда: чудак нисколько не переменился, между тем как я успел состариться. - Да ты, друг мой, не бережешь себя, - возразила жена с тяжким упреком. - Возможно ли? Ездишь каждый день в клуб, какова бы ни была погода, и просиживаешь там до часу, до двух ночи! - Полно, полно, mon amour (моя дорогая (франц.)), отвечал муж, - вспомни, что когда бы я не был стариком, то не играл бы Фамусова. Ха, ха, ха - нашелся! Не правда ли? - Конечно, - сказал я, улыбаясь, - мы были бы лишены удовольствия видеть вас в роли, но... - Комплимент, еще не заслуженный, - отвечал довольный Линдин, - и, в отмщение, я лишаю вас роли Чацкого. Но, прибавил он, пожав мне руку, - мы с вами без церемонии, и вы будете играть Молчалина. Согласны ли? Я согласился, и Петр Андреич продолжал: - Завтра я познакомлю вас с моим старым приятелем. Прелюбезный человек! Несмотря на свой шестой десяток, он свеж, как не знаю кто, и охотно берет на себя Чацкого. Говорит, что уже несколько раз играл его. - Ты, стало быть, все рассказал ему? - спросила жена. Но как же зовут твоего приятеля? - Он мне называл себя, да, право, не помню: что-то вроде "Вышиян", знаю, что на "ян". Но вот он, в третьем ряду кресел. Чудак! Не смотрит. - Не в фиолетовых ли очках? - спросил я. - Ну да; а разве вы его знаете? - Нет, но он мой сосед по креслам, - отвечал я в за мешательстве. Линдин того не приметил и собирался ехать в клуб. - Сей же час зову к себе весь город на представление, говорил он, - я введу его в лучшее общество, познакомлю с нашей публикой... Пусть все толкуют о Чацком Линдина и спрашивают наперерыв: кто такой, кто такой? - Но сначала, mon ami (Друг мой (франц.)), узнай, как его зовут, - заметила Марья Васильевна. - Да, кстати, смотри, не засиживайся в клубе. Ах, постой, постой: что это у тебя на платье? - Соринка. - Ну, теперь ступай с Богом Мы простились до завтра, и я вместе с Линдиным оставил театр.