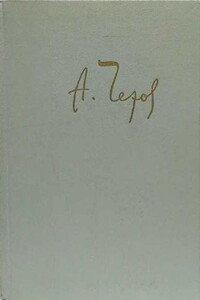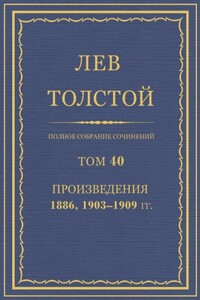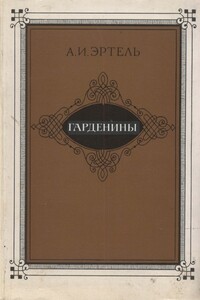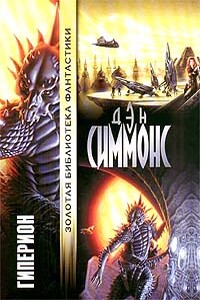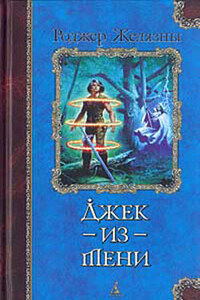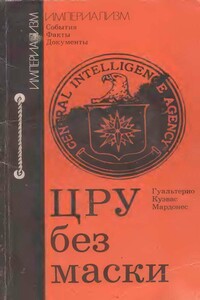В один ненастный осенний вечер почти беспрерывно лил мелкий холодный дождь, и грязь на улицах, лишенных мостовой, стояла невылазная. Кой-где мерцали фонари.
Их желтое колеблющееся пламя отражалось в лужицах. Воздух, пропитанный сыростью, гнилью и еще какими-то отвратительнейшими миазмами, доносившимися из выгребных ям, казалось, отравлял дыхание.
Прохожие встречались редко; они шли, укрытые плащами или дождевыми зонтами, ахая и проклиная погоду. Небо сумрачное, темное, с тяжелой свинцовой завесой, представляло неиссякаемый источник ливня, как бы угрожая потопом.
По глухому переулку двигались две мужские фигуры выше среднего роста. Они тяжело ступали ногами, обутыми в сапоги с высокими голенищами. На обоих были фуражки из чертовой кожи. Один имел короткое пальто желтого сукна, доходившее ему до колен, какие носят в больницах и тюрьмах.
Этот оранжево-бурый цвет почему-то считается излюбленным между молодцами особого рода киевских сутенеров и хулиганов и составляет как бы их форму, в отличие от прочих.
На другом была надета куртка цвета воронова крыла. Изредка они перебрасывались короткими, отрывистыми фразами.
— Где тот трактир? — спрашивал обладатель пальто.
— Нешто не знаешь Исаева заведения! Ты ему сколько вещей сбывал с теткой Лукерией, — басом ответствовала куртка.
— А, тот самый! С тех пор, как тетка умерла, я разлюбил его. Теперь свободное время провожу на Подоле. Там есть «Встреча друзей», — отвечал другой, у которого голос звучал несколько нежней и мягче, с оттенком даже какой-то грусти. — А к Исаю как войду, всякая веселость пропадает.
— Как денег нет — везде, брат, невесело, — сумрачно отозвался приятель.
Тусклый блеск фонаря упал на его лицо и на мгновение осветил грубые черты с выражением угрюмой озверелости, сумрачные глаза, черные, будто сросшиеся брови, приплюснутый нос и жесткую растительность около щек и губ.
Они подошли к длинному, старому дому, покосившемуся на один бок, почерневшему от времени. Странное впечатление производило это узкое одноэтажное здание; казалось, людской порок недрился здесь и свил себе прочное гнездо. Под освещенными окнами, в виде приманок, красовались пивные бутылки, бочонок сельдей, поставец с салом, ветчиной и тощей малороссийской колбасой.
За прилавком стоял седой, сухощавый еврей в ермолке на голове и длиннополом лапсердаке.
Тяжелая дверь, с навязанным в виде блока камнем, зарычала и опять подалась назад. Струя свежего, холодного воздуха ворвалась вслед за пришельцами.
Парни потоптались у порога и медленно сняли шапки.
— Чего надо? — спросил трактирщик, сощурив свои подслеповатые глаза и, разглядев гостей, прибавил с ласковой улыбкой младшему: — Что скажешь, Ваня, хорошенького?
— Нам Клим Терентьич Сидоров велел прийти сюда, — ответил старший в куртке, хищническим взглядом окидывая съестные припасы.
— Пройдите в ту комнату, — хозяин указал на двери в столовую или перекусочную: — может, подать вам чего-либо? — прибавил он.
— Денег нет, — развязно заявил первый.
— Денег нет — не беда! Сами вы дорогой народ, — сказал трактирщик. — Ваню я знаю за хорошего человека и поверю в долг.
— Давайте, Исай Мореич, пива, — сказал младший, которого назвали Ваней, снимая пальто: — только Бог весть, когда отдам: казны не клал под спуд, недавно из тюрьмы выпустили.
— А мне отпустите фунт копченого сала, ситного хлеба и бутылочку очищенной, — тем же развязным тоном продолжал верзила в куртке.
Исай Мореич искоса взглянул на него.
— Кто ты такой, что-то я тебя не знаю?
— Будто не знаете Михаилу Зайко? Разве вам Борух Мордухович не говорил, сколько я ему золота сгреб за бесценок? Он потом ездил за границу и перепродал. Что Ванька против меня — баба; он курицы не обидит и как дурень в тюрьму попался, а я всегда действую по рассудку.
— Я раз целую дюжину от мала до велика перерезал, — шепотом заговорил он, нагибаясь к самому уху товарища, когда хозяин поставил перед ним требуемое и удалился. — За Гродном еврейская семья жила в хуторе. Забрался я к ней прямо с бегов и начал крошить направо и налево. Служанка там у них русская жила, так я и ее полоснул заодно; на том свете пускай разбирают. Двухлетнее дите проснулось и закричало, а я его будто цыпленка пырнул ножом в горло.
Денег шестьсот целковых нашел у них и закатил в Москву. То-то хорошо жилось, вовек не забуду! Где я только не был!.. За деньги тебе всюду почет и уважение. Помню, поехал я в тиятер и двух мамзелей пригласил; они, братец ты мой, чуть не подрались за меня.
Опосля приехал в Киев, и здесь мне не везет. Не знаю, что еще Клим Терентьич скажет, — говорил парень, закусывая хлебом и салом.
Ваня медленными глотками тянул пиво и, казалось, мало слушал товарища. Раза два он болезненно поморщился, провел рукой по лбу и опять задумался.
— Нет, стой, приятель! Был у меня тож один удачливый случай на контрактах. Остался я без копейки денег. Что было, спустил в карты. Малость покутил. День не ем, — другой тошно стало. Пошел я на контракты, авось клюнет что-нибудь. Хожу, смотрю, толкаюсь между народом. Идет навстречу барин пожилых лет под руку с дамой; я за ними следую издали. Барышня что-то купила, а он начал расплачиваться; бумажник, гляжу, туго набитый и спрятал он его в боковой карман, только не сюртука, а шубы. Поворотили они к выходу, — я за ними побежал вперед. Напротив, что морская волна, — прет толпа народа. Я за народом прямо барину навстречу и так ловко засунул ему руку в карман под шубу, что он не заметил, выхватил бумажник, да скорей давай Бог ноги. Прибежал в пустую усадьбу, развернул, а там три сотни радужными с мелочью. Я сейчас в трактир. Водки, коньяку себе заказал. Уж я пил, уж я ел… Не житье, а масляница пошла.