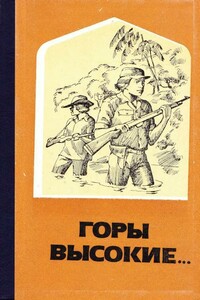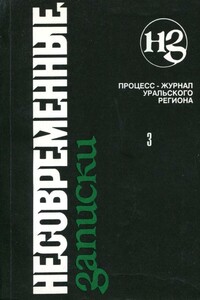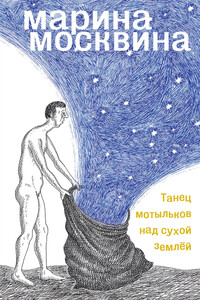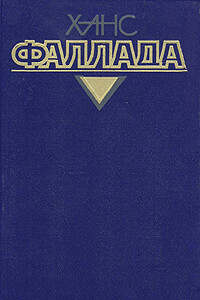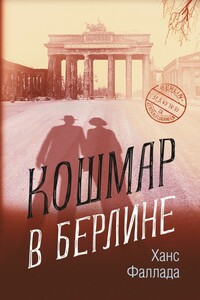И. Фрадкин. Трудное начало большого пути
Очертания будущего романа «Крестьяне, бонзы и бомбы» постепенно начали вырисовываться в сознании Рудольфа Дитцена, репортера из жалкого провинциального листка «Генераль-Анцайгер фюр Ноймюнстер унд Умгебунг», в октябре — ноябре 1929 года, когда он в Ноймюнстерском Земельном суде наблюдал за ходом многодневного процесса. «В течение двух-трех недель, — вспоминал Дитцен впоследствии, — суд заседал, расследовал, допрашивал обвиняемых, выслушивал многочисленных свидетелей, и мне было разрешено каждый день проводить три-четыре часа за столом прессы, слушать, делать заметки, писать отчеты… Мне был предоставлен шанс!»
Перед Дитценом на скамье подсудимых сидели участники недавней уличной демонстрации, меченные глубокими сабельными шрамами — следами полицейской расправы; они обвинялись в «бунтарстве, нарушении общественного порядка и оскорблении должностных лиц». Суд над ними был одним из многих процессов, проходивших в 1929–1930 годах в различных городах Шлезвиг-Голштинии и имевших целью обезглавить и разгромить массовое, организованное крестьянское движение в этой провинции, называвшее себя «Ландфольк», в романе именуемое «Крестьянством».
Свой шанс Рудольф Дитцен не упустил. Его встреча лицом к лицу с «Ландфольком» имела для него воистину судьбоносное значение. Благодаря ей безвестный газетный поденщик, затерянный в захолустье, материально бедствующий и подавленный сознанием своей незначительности, человек уже не первой молодости и отнюдь не беспорочного прошлого, стал несколько месяцев спустя известным всей Германии, а затем и всему миру писателем под псевдонимом Ханс Фаллада (1893–1947).
Впрочем, чтобы быть точным, роман «Крестьяне, бонзы и бомбы» не был литературным первенцем Фаллады. Еще в начале двадцатых годов он опубликовал два романа — эпигонские перепевы характерных экспрессионистских мотивов. Романы эти — «Молодой Гедешаль» и «Антон и Герда» — прошли незамеченными критикой и публикой и не оставили следа в немецкой литературе, а спустя десять лет сам автор скупил и уничтожил оставшуюся нераспроданной большую часть тиража.
Привыкший к неудачам, Дитцен все же не отказался от своей мечты утвердиться в литературе. Вся его жизнь (в целом и в эти двадцатые годы, в частности), жизнь высоко талантливого и глубоко несчастного человека, могла бы стать темой горькой повести[1] о непрерывной цепи преследовавших его бед, как социально обусловленных, так и вызванных несовершенствами его физической конституции. В своих более поздних произведениях он вспоминал о тяжелом разладе с семьей и гимназией и о своем раннем отлучении от родительского дома, об инсценированной «дуэли», придуманной для прикрытия условленного двойного самоубийства, во время которой Дитцен убил друга и нанес себе тяжелые, опасные для жизни ранения, о последующих годах, отравленных наркоманией и алкоголизмом, годах полукочевой жизни с частой сменой профессий, с нелепыми правонарушениями и тюремными отсидками… Но все это время он тянулся к перу, и его очерки и корреспонденции изредка появлялись в журналах «Литерарише Вельт» и «Дас Тагебух». К тридцати шести годам он накопил немалый жизненный опыт, и все же ему недоставало большой, общественно значимой темы. Он наконец встретился с ней в Ноймюнстере на процессе по делу «Ландфолька».
* * *
В конце 20-х годов Германия переживала экономические и социальные потрясения необычайной силы, симптомы прогрессирующей фашизации Веймарской республики проступали все более отчетливо. Но и на фоне достаточно громких событий, кричавших с первых полос ежедневных газет, взрывы бомб, доносившиеся из далекой северной провинции Шлезвиг-Голштинии, были услышаны всей Германией и вызвали повсеместное волнение и тревогу. В административных зданиях этой провинции, в магистратах, полицейских участках и особенно часто в помещениях или у дверей налоговых ведомств рвались подложенные неведомой рукой бомбы. Правда, жертв при этом не было — «динамитчики» делали свое дело бескровно, их целью был не террор, а громкая апелляция к общественному мнению страны.
За этими взрывами стояла организация «Ландфольк» (вернее, определенная ее фракция, возглавляемая Клаусом Хаймом), которую в то время принято было, не мудрствуя лукаво, считать — как ее представители и сами себя считали — организацией «крестьянской». Между тем социальная природа «Ландфолька» была гораздо более сложной и неоднородной.
Возникновение этого движения было связано с нарастанием экономического кризиса в Германии и, как следствие его, с понижением покупательной способности городского населения и падением спроса на сельскохозяйственные продукты. Этот процесс чувствительно сказался на крупнопоместных животноводческих хозяйствах северо-восточных приморских районов Шлезвиг-Голштинии. Для этих мест характерной фигурой был не собственно крестьянин (пусть даже богатей, кулак), а потомственный землевладелец, нанимающий десятки батраков, своего рода помещик, отличающийся от юнкера единственно лишь отсутствием дворянского звания. (И не случайно, кстати, среди вожаков «Ландфолька» в романе Фаллады мы рядом с крупными землевладельцами крестьянского происхождения видим также объединенного с ними одинаковыми интересами графа Бандекова.) Эти крестьяне-помещики, владельцы крупных животноводческих ферм, хозяйствовали по испытанному десятилетиями методу: по весне, прибегая к банковскому кредиту, скупали на откорм молодняк, а осенью, продав скот на мясо, вернув ссуду с процентами, выплатив налог государству, завершали год с надежной выгодой для себя. Но в конце двадцатых годов экономические устои Шлезвиг-Голштинии начали шататься: понижение закупочных цен и спроса на мясные продукты нанесло тяжкий удар по животноводческим хозяйствам, создало для многих фермеров угрозу разорения и распродажи их имущества с молотка.