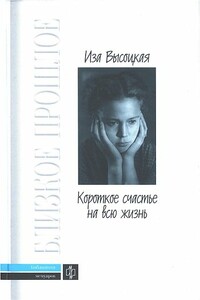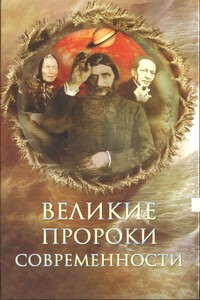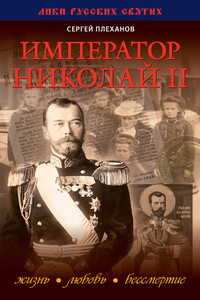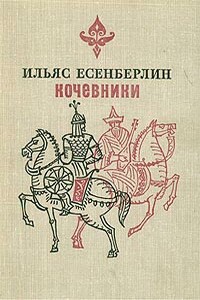Уезжая из Киева, я забрала с собой в Москву Володины письма. Они были в посылочном ящике, и их положили на антресоли в кухне вместе с моими, которые сохранил Володя. Для меня они так и лежат там, на 1-й Мещанской, дом 76, квартира 62, забытые, потерянные, может быть, уничтоженные… Не знаю. Иногда они тревожат меня, и становится страшно от мысли, что кто-то посторонний может взять их в руки, прочесть, заглянуть в только нам принадлежащий мир, только нами пережитое, никому не доверенное. Их было много. В течение двух лет, что я работала в Киеве, мы писали каждый день, исключая, конечно, встречи.
Уже почти полвека прошло, как мы встретились, и больше двадцати лет, как тебя не стало. Но ни время, ни расстояние, ни смерть не отдаляют тебя. Все так же явственно ощущаю я твое живое присутствие.
Сначала меня уговаривали, потом я сама захотела попытаться доверить бумаге мое, а значит, и твое прошлое. Я люблю тебя.
Я родилась в 1937 году в январские холода в Горьком. Бабушка придумала мне блестящее имя Изабелла. Но отец по дороге в ЗАГС забыл «…беллу» и осталось короткое и непонятное Иза, о чем я долго не знала.
В детстве я была Изабелла Николаевна Павлова. Перед самой войной мы жили в Гороховецких военных лагерях. Самым замечательным и притягательным местом была там круглая танцплощадка с духовым оркестром, куда я часто проникала, и всякий раз меня вылавливали танцующую под ногами взрослых.
Помню, как, обидевшись на маму, я собрала свои вещи: зеленую плюшевую сумку-лягушку, зонтик от солнца и паровоз на веревочке — и ушла в дремучий лес. Нашли меня спящей на стрельбище под кустом. От того мирного времени остались фотографии: мама с букетом ромашек — пышноволосая, с милой улыбкой родных глаз, я с тем же букетом — очень строгая в белой кофточке и еще мы с папой. Он обнимает нас, и это называется счастьем.
Инна Ивановна Мешкова — моя мама. Она беззаветно любила и умела радоваться пустякам. 1940 год.
Потом была война. Папа ушел на фронт. Мы с мамой жили в Горьком в военном трехэтажном доме красного кирпича — бывшем монастыре. Когда спрашивали: «Где вы живете?» — так и отвечали: «В монастыре». Толстые белые стены его замыкали в себе белый храм, где давным-давно никто не служил, белую высокую колокольню с молчащими колоколами, прочные приземистые дома, в которых когда-то жили священнослужители, а теперь просто люди, и разрушенное кладбище, на котором никого не хоронили, а совсем наоборот: мраморные памятники и надгробные плиты всех таинственно-заморских цветов были свалены в огромную угрюмую кучу, могильные холмики коряво срыты или просто разворочены, из склепов с приоткрытыми ржавыми дверями тянуло холодной сыростью, и туда было жутко заглядывать. Говорили, что на месте кладбища собирались сделать парк культуры и отдыха, но не успели. (В центре города уже был такой парк имени Куйбышева, но в народе его называли «парк живых и мертвых».)
Только одна могила стояла нетронутая с большим железным крестом в ограде с надписью «Мельников-Печерский». Потом, уже после войны, году в 47-м, за одну ночь появилась еще одна. Холмик, покрытый свежим дерном, и памятник красно-коричневого мрамора с детским профилем — Катюша Пешкова. Сереньким весенним утром привезли на черной машине сухонькую женщину в черном. Она постояла на могилке, усыпала ее ландышами, и ее увезли. А мы узнали, что Катюша Пешкова — дочь Максима Горького, в честь которого наш город из Нижнего Новгорода превратился в Горький.
В монастырских стенах у ворот были кельи. В них жили бывшие монашки. Мы ходили к ним тайно от родителей. У них были белая козочка и огромные диковинные книги в невиданных переплетах с серебряными замками и непонятными буквами. Некрещеная наша братия слушала жития святых и прятала в потайных местах «живые помощи».
На пустыре за монастырскими воротами мамы сажали «глазками» картошку. Все папы ушли на войну. Ждали треугольных писем, и когда было невмочь, кричали в прогоревшие печки родные имена. Верили: если жив, услышит и пришлет весточку. Жались друг к другу, делились последним. Шили детям марлевые платьица и в широком коридоре на третьем этаже устраивали детские спектакли.
Пели, смеялись и плакали. На Новый год в Доме офицеров устраивалась для нас роскошная елка: гирлянды, разноцветные цепочки и флажки, мандарины, конфеты прямо на елочных лапах, золоченые орехи и музыка.
Папа был десантник, комбат. Писем с фронта мы не ждали, только если из госпиталя. В бомбоубежище не ходили — папа не велел. Были случаи, когда бомбоубежища засыпало. Мы предпочитали смерть мгновенную. Город бомбили, особенно Окский мост, рядом с которым жила бабушка. В ночном воздухе зависали светящиеся шары, становилось сиренево светло, и начиналась бомбежка. Дребезжали заклеенные крест-накрест стекла, и стоял удушливый вой. Мы с мамой болели малярией. Нас и без того трясло.
В один прекрасный день приехал папин адъютант Вовочка Зорин, накормил нас тушенкой и «подушечками», слипшимися в один пресладкий ком, и всеми правдами и неправдами привез — через темные вокзалы, длинные серые очереди проверок документов — в хмурую Москву, в Люберцы… к папе.