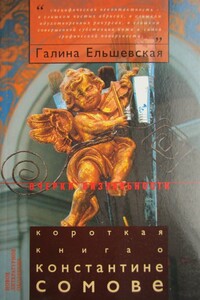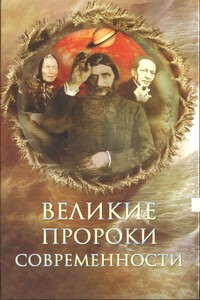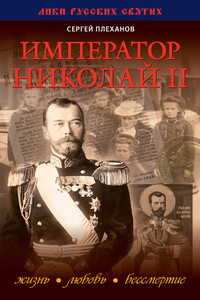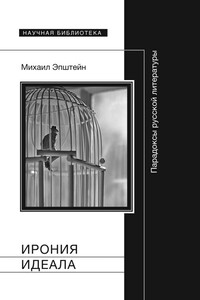Когда совсем юный Александр Бенуа глядел на рисунки своего гимназического одноклассника Константина Сомова, ему и в голову не приходило, что того ждет слава художника. В ту пору Сомов покрывал страницы школьных тетрадей профилями актрисы французского театра Жанны Брендо — и этим бесконечным воспроизведениям женской головки было еще, видимо, очень далеко до завораживающей прелести «дам прошедшего времени», в начале XX столетия производивших на зрителей эффект почти магический.
Магический — оттого что в сомовском искусстве как-то экстрагировались умонастроения Серебряного века; то, чем жило рубежное поколение, остро и страдальчески осознающее свою рубежность, воплотилось в нервно-ироническом маньеризме его ретроспекций. И когда по прошествии лет — в 1970-е — начало столетия вновь сделалось объектом исследовательских интересов, выяснилось, что все историко-культурологические модели реконструируемого процесса на материале этих «галантных празднеств» работают с предельной внятностью: неагрессивный декаданс, пассеистские мечты, насмешка над собственным инфантилизмом и страхами перед жизнью. Череда дней есть тотальный маскарад, где — по слову поэта — «улыбается под каждой маской — Смерть»; все сущее — эфемерно, хрупко, конечно, недолговечно. Такая программа в разной мере разделялась многими участниками группы «Мир искусства», но лишь Сомовым оказалась выговоренной до финала.
Высоко ценимый современниками, отчасти как раз за попадание в нервный узел «коллективного бессознательного», художник и в представлении потомков выглядит «выразителем» некоего общего томления — бытийной усталости, парадоксально ощущаемой людьми переходной эпохи едва ли не в качестве жизнестроительного и уж безусловно в качестве творчески продуктивного элемента: он словно бы воплощает психологию «рубежности», ею же исчерпываясь. В силу этого ракурса его поздние работы обычно не обсуждаются, — расцветная пора фиксируется в пределах первого десятилетия нового века: центральная фигура в кругу «Мира искусства», показательная в эстетике русского модерна в целом, важная для понимания символизма как способа творить и жить; далее подразумевается очевидный упадок. Тем более и вещи, разбросанные по музеям от Оксфорда до Буэнос-Айреса и по частным коллекциям от Франции до Соединенных Штатов Америки, весьма труднодоступны.
Между тем период упадка захватывает без малого полжизни автора. В иных географических пределах, вне привычной среды и контекста, он не мог пожаловаться на творческую невостребованность; и негромким коммерческим успехом был обязан не только портретам, но и вечным «маркизам». Пусть необходимость эксплуатации прежней поэтики им самим переживалась как проклятье («порядочная пошлость эти мои картины, но все хотят именно их»; «опять условие: XVIII век — так, верно, и умру я в XVIII веке»!) — но характерна природа возникновения спроса на то, что давно, — по мнению критиков, еще во второй половине 1910-х годов («в его последних „ретроспективных мечтаниях“ нет былой магической убедительности и не может быть, так как в теперешней русской жизни уже прошло то болезненное брожение, что давало необходимые соки для их, вместе и живой и призрачной, как ночной фейерверк, как радуга, — красоты» — В. Дмитриев), — утратило актуальность. Одно это обстоятельство побуждает откорректировать грустную схему судьбы художника, новым временем обрекаемого лишь на самоповторы и репрезентацию ушедших смыслов.
Откорректировать сначала с общих позиций — например, разобравшись с тем, как стиль модерн в целом латентно содержит и при необходимости легко развивает свои салонные интенции; как отзываются его формальные признаки в европейском «Ар Деко» 1920—1930-х годов. Но здесь же возникает личный момент: сосредоточенность на форме — правильнее сказать, на поверхности, глянцево-непроницаемой и иллюзорно проработанной, столь характерная для «Ар Деко», никогда не была Сомову чужда; этот культ поверхности выглядел для него как культ изобразительного мастерства (с непременными сетованиями на недостаточность школы) и как возможность спрятаться за безусловность мастерства от разного рода романтических — «глубинных» — самооткровений. Можно вспомнить, что уже внутри «Мира искусства», представлявшего собой во многом сообщество дилетантов, он выделялся академической выучкой; потребность брать уроки сохранилась до конца жизни. Болезненно сомневающийся в собственных возможностях («не могу привыкнуть работать без отчаяния и с верой в свои силы»; «я совершенно не понимаю техники масляной живописи»; «не графическая у меня рука — нет легкости и отчеканенности») и столь же болезненно — в надежде на волшебное преображение — длящий процесс изготовления картины («конопатил лица героев до усталости глаз»), Сомов словно бы рассчитывал трудом достичь обретения некоего закона, позволяющего уйти от субъективности, — чтобы не было приступов отчаяния («мне отвратительно мое дилетантство») и потребности уничтожать свои работы (такого рода «казни» осуществлялись им в 1900—1910-х годах периодически — порой выбрасывалось до ста — ста пятидесяти вещей разом). Кстати, он разделял свои вещи на «серьезные» и «продажные» — практика, невозможная для художника романтического склада, но вполне естественная для того, кто сделал ставку на неизменность твердого ремесла и навыка. И уже в подобной позиции есть некий вызов времени — самой идее времени; вызов быстротечной жизни, чреватой переменами, потерями и разрушением ориентиров.