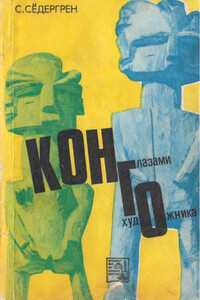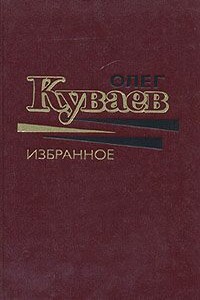На две пачки сигарет вымениваю плоды манго. И вот у меня в руках полная корзина. Своеобразный запах… Странно знакомый, будто событие, которое случилось вчера. Или сегодня. Или только что. А я уже успел его забыть.
Кусаю желтый сочный плод, и вдруг ни с того ни с сего меня разбирает смех. Смеюсь, смеюсь, и почему-то вспоминается маленькая зеленая курточка с черными пуговицами. На пуговицах — слоны.
В Дакаре надо было выгрузить три тысячи тонн цемента, и на борт нашего судна поднялась артель чернокожих грузчиков. Стоя на корме, облокотившись на поручни, я смотрел вниз, в трюм. Рабочие сновали взад-вперед, словно перемазанные мукой мураши, мешок ложился на мешок, и мало-помалу вырастала груда, которую грузовая стрела отрывала от палубы, относила в сторону и опускала на пристань. Через рельсы железнодорожной ветки рабочие тащили мешки в огромный пакгауз. Работа двигалась ужасно медленно, вяло. В неподвижном воздухе вспухали облака цементной пыли.
Зачем я тут торчу? От такого зрелища только в сои клонит. Бригадир грузчиков, багровея от злости, стоит на палубе и честит лодырей. Переводит взгляд на меня и безнадежно разводит руками. Ну, что ты с ними поделаешь.
Но вот по трапу поднимается пятерка привидений. В самом деле, какие-то немыслимые фигуры: с ног до головы в серой пыли, только глаза блестящие и черные, как антрацит. Садятся в кружок на палубе и начинают петь и хлопать в ладоши. И сразу темп работы меняется. Грузчики буквально оживают, подчиняясь ритму песни. Ноги пританцовывают мешки теряют вес. И бригадир уже смотрит веселее. Задолго до вечера разгрузка закончена, можно идти из Дакара дальше.
Пахнет земляными орехами. Судно окружают юркие лодчонки, нагруженные всякими диковинами. За сигареты нам предлагают копья, корзины с плодами, плетки из кожи бегемота. Подходит большой плот, до краев нагруженный людьми, котелками, узлами, и на борт поднимается дополнительная команда. Сорок человек пойдут с нами на юг, будут помогать с погрузкой и разгрузкой.
На чернокожих «боях» одежда, добытая на других пароходах. Кок, который будет стряпать им в пути, вырядился в старую шинель с высоким воротом и розовые кружевные дамские панталоны. Другой щеголяет в длинной ночной рубашке. Своего старшого они величают «хедмен», это небольшого роста важный господин в черном цилиндре, его отдельно подвезли на лодке собственные гребцы. На носу лодки и поперек кормы огромными черными буквами написано: «Веруй в бога».
Вот она, природа, которая будет меня окружать. Вот он, цвет вечной зелени. Я смотрю на лесистые гребни гор за Фритауном. Вершины закрыты тяжелыми серыми тучами: дождевой сезон.
Мои ранние детские воспоминания неизменно окрашены запахами и таинственностью удивительного мира, из которого возвращались мои родители. Память об интернате для детей миссионеров наполовину стерлась, но в ней прочно живет Конго. Правда, сейчас я как-то особенно остро чувствую себя шведом, словно Швеция облекает меня с головы до ног.
«Бои» говорят на пиджине, этом куцем английском языке, в котором всего две-три сотни слов. Живые, веселые ребята, они не прочь козырнуть фразой, подслушанной в прежних плаваниях. Когда они поднимались на пароход, один из первых, сияя всем лицом, крикнул на норвежском языке: «Я загорелый парень из Ставангера!» В списке штурмана он числится под именем Джон Африка. За ним следует Джо Горе Черного Человека.
Жарко, душно, полное безветрие. Море и небо — бесконечная, сосущая, серая, мерцающая пустота. Ленивый, медлительный прибой… В каютах полным ходом работает охлаждение, воздух сырой и липкий, как в темном подвале.
Миссионерскую станцию в Браззавиле я совсем не помню. Был слишком мал. (А то, что сейчас меня окружает. тоже Африка пли всего лишь застопорившая ток времени серая бесконечность?) 11о словам родителей, я любил лежать на полу, прижавшись щекой к доскам, так было прохладнее. Сейчас жарко, очень жарко. И я по себе чувствую, что приближается Конго. Словно возвращаюсь домой…
В Гвинейском заливе, на маленьком острове Принсипи с плантациями какао, один из «боев» упал в грузовой трюм и сломал себе хребет. Тут же, на острове, его и похоронили, и товарищи покойного, пели о вечном белом сиянии. Хедмен произнес надгробное слово. После похорон гроб, взятый напрокат, возвратили владельцу. Когда гроб опрокинули над могилой, тело со стуком шлепнулось на дно ямы.
В Лобиту, в Анголе, я сошел с парохода и на несколько недель застрял у своего хорошего друга из французского консульства. До конголезского порта Пуэнт-Нуар оставались всего сутки пути на пароходе местной линии. А меня одолела хандра. Зной, палящее солнце и зной… Утром только почистишь зубы в переливающемся росой консульском саду, как уже опять жарища начинается. Во второй половине дня дышать чуть легче, освещение становится мягче и выявляются красивые оттенки. Даже чересчур красивые, и закат, после которого сразу сгущается тьма, какой-то слащавый.