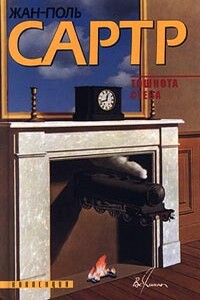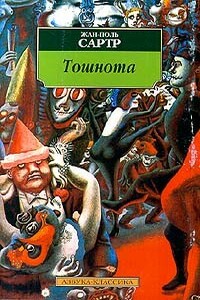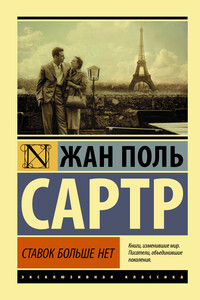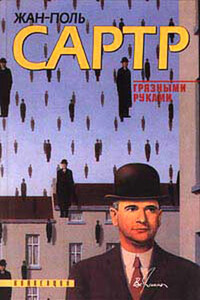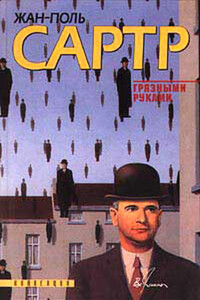Госпожа Дарбеда держала кончиками пальцев рахат-лукум. Она осторожно поднесла его к губам и затаила дыхание, боясь сдуть сахарную пудру, которой он был присыпан. «Розами пахнет!» – подумала она. Она вонзила зубы в вязкую массу и ощутила во рту гнилостный привкус. «Удивительно, как болезнь обостряет чувства». Она стала думать о мечетях, о приторно-вежливых восточных людях (она ездила в Алжир в свадебное путешествие), и на ее бледных губах обозначалась едва заметная улыбка: рахат-лукум тоже был приторно-сладким.
Ей пришлось несколько раз провести ладонью по страницам книги, потому что, несмотря на все предосторожности, их покрывал налет белой пудры. Под ее ладонями на скользкой бумаге свертывались, поскрипывая, крохотные песчинки сахара: «Это напоминает мне Аркашон, когда я читала на пляже…» Лето 1907 года она провела на побережье. Она носила тогда соломенную шляпу с большими полями и зеленой лентой; сидела у самого пирса с романом Жипа или Коллеты Ивер. Ветер осыпал ее колени песком, и время от времени она встряхивала книгу, поднимая за уголки. Сейчас она чувствовала то же самое, только вот песчинки были сухие, а эти малюсенькие сахарные шарики липли к кончикам пальцев. Перед глазами вдруг возникла полоска жемчужно-серого неба над черным морем. «Это было до рождения Евы». Она чувствовала себя нагруженной воспоминаниями и драгоценной, как шкатулка из сандалового дерева. Неожиданно всплыло в памяти название романа, который она тогда читала, – «Маленькая госпожа»; он вовсе не был скучным. Но с тех пор, как непонятная болезнь безвыходно удерживала ее в комнате, госпожа Дарбеда предпочитала мемуары и сочинения по истории. Она полагала, что страдание, серьезное чтение, обостренное внимание к своим воспоминаниям, к своим самым утонченным ощущениям помогут ей созреть, словно редкому оранжерейному плоду.
Она с раздражением подумала, что сейчас в дверь постучит муж. В другие дни недели он заходил только по вечерам, молча целовал ее в лоб и, устроившись напротив в кресле, читал «Тан». Но четверг был его «днем»: господин Дарбеда отправлялся на часок к дочери, как правило, от трех до четырех дня. Перед уходом он заглядывал к жене, и они с горечью беседовали о своем зяте. Эти разговоры по четвергам, повторявшиеся до мельчайших деталей, совершенно выматывали госпожу Дарбеда. В этой тихой комнате господина Дарбеда было слишком много. Он не садился, расхаживал взад-вперед и беспрерывно вертелся. Каждое из этих резких движений терзало госпожу Дарбеда, как звон разбитого стекла. В этот четверг дела обстояли даже хуже обычного: при мысли, что ей придется повторить мужу признания Евы и увидеть, как это пугающее большое тело задрожит от ярости, госпожа Дарбеда потела от страха. Она взяла с тарелки кусочек лукума, с минуту нерешительно смотрела на него, затем с печальным видом положила обратно: она не любила, когда муж заставал ее за этим занятием.
Она вздрогнула, услышав стук.
– Входите, – тихо сказала она.
На цыпочках вошел господин Дарбеда.
– Я иду к Еве, – сказал он, как всегда.
Госпожа Дарбеда улыбнулась.
– Поцелуй ее за меня.
Господин Дарбеда не ответил, лишь с озабоченным видом наморщил лоб: каждый четверг, в один и тот же час, битком набитый желудок вызывал у него какое-то глухое раздражение.
– От нее я зайду к доктору Франшо, мне хотелось бы, чтобы он серьезно поговорил с ней и постарался убедить.
Он часто навещал доктора Франшо. Но напрасно. Госпожа Дарбеда вздернула брови. Раньше, будучи здоровой, она в таких случаях обычно пожимала плечами. Но с тех пор, как болезнь утяжелила ее тело, утомлявшие ее жесты она заменила мимикой лица – глазами говорила «да», уголками губ – «нет».
– Надо бы попытаться отнять у него Еву.
– Я ведь уже говорил тебе, что это невозможно. Кстати, закон на этот счет очень плох. Франшо как-то сказал мне, что у врачей бывают немыслимые неприятности с семьями: люди не решаются сдать больных в клинику и держат их дома. У врачей связаны руки, они вправе лишь высказать свое мнение, и все тут. Необходимо, – продолжал он, – чтобы разразился публичный скандал, или семья сама должна потребовать помещения больного в больницу.
– Но это когда еще будет, – заметила госпожа Дарбеда.
– Вот именно.
Он повернулся к зеркалу и, запустив пальцы в бороду, принялся ее разглаживать. Госпожа Дарбеда равнодушно смотрела на мощный красный загривок мужа.
– Если так и дальше будет продолжаться, – сказал господин Дарбеда, – она станет безумнее его, у них страшно нездоровая обстановка. Она ни на шаг от него не отходит, никого не видит, кроме тебя, никого не принимает. Окон она никогда не открывает, потому что этого не желает Пьер. Как будто для этого надо спрашивать разрешения у больного. Они, по-моему, жгут благовония в курительнице – такая гадость, кажется, что ты в церкви. Право слово, иногда я думаю… знаешь, глаза у нее какие-то странные.
– Я этого не заметила, – возразила госпожа Дарбеда. – Я нахожу, что выглядит она нормально. Правда, немного печальна.
– Она как покойница. Хорошо ли она спит? Как питается? И не думай спросить ее об этом. Но я считаю, что, имея под боком такого «гуся», как этот Пьер, ей приходится ночи напролет не смыкать глаз. И самое невероятное во всем этом, что мы, ее родители, не имеем права защитить ее от нее самой. Заметь, что у Франшо уход за Пьером будет гораздо лучше. У них огромный парк. И к тому же я считаю, – прибавил он с едва уловимой усмешкой, – что с себе подобными ему будет легче найти общий язык. Эти существа как дети, надо, чтоб они были заняты собой; они образуют своего рода братство франкмасонов. Вот где следовало бы его держать с первого же дня, и замечу – для его же пользы. Да, для его же пользы.