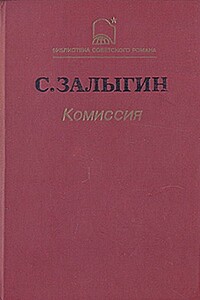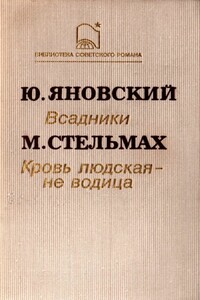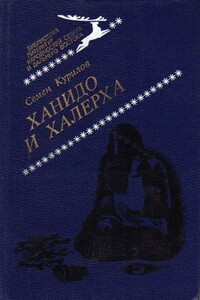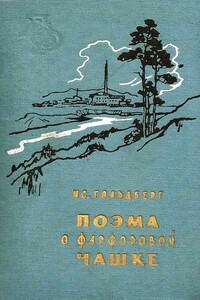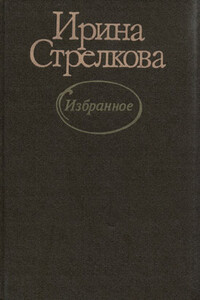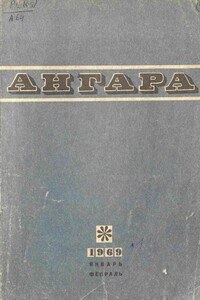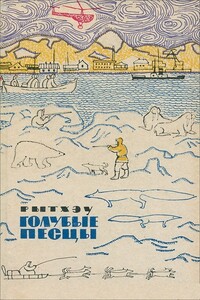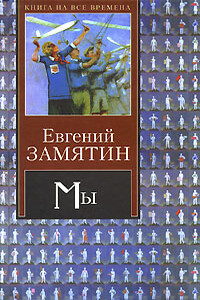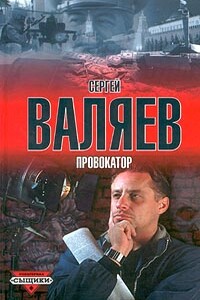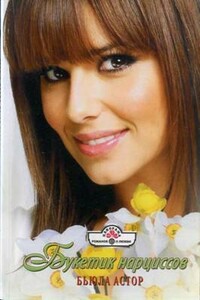Памяти Александра Трифоновича Твардовского
Разного облика произрастают леса по великой Сибири…
Одни — прозрачно-зеленые, легкие, другие — и не зеленые вовсе, а иссиня-темные;
одни — в светлых рощах-островках, пронизанных солнцем, разбросаны по степям, по склонам, по речным долинам, другие волнуются на тысячеверстных протяжениях;
одни — вздымаются в горы под самую кромку снегов, под грани вечного льда, другие — ниспадают к северу, к морям и океанам холодным, почти безжизненным;
одни — лелеют буйное разнотравье на лесной своей подстилке, привечают кустарниковую молодь, а в других местах лесной почвы только бурая хвоя, мхи серые и останки мертвых древес.
Но есть и еще леса — ленточными борами зовутся они…
Те вдоль невеликих речек и неширокой полосой разматываются с юга на север или обратно, не известно, как и почему возникая в ковыльном либо в озерном крае земли. И неизменно сопровождает ленточный бор течение то веселых и бойких, то едва тронутых движением вод с древними татарскими названиями: Карасук, Бурла, Кулунда, Касмала, Барнаулка, Алей, Чарыш.
Только не эти малые речушки, а леса при них всюду, где они существуют, преображают степь, сливают свой запах с ее запахом, свой цвет и свет с ее цветом и светом, свое молчание с ее тишиною и шепотом, свой гул и шум — с ее вьюгами-буранами, меняют природу, всё степное существо земли.
Весь мир вокруг себя преображают они.
И жизнь человеческая тоже издавна становилась иной при ленточных борах, не степная была там и затерянная жизнь, не лесная глухоманная, была она просторна пашенной землею и не бедна лесом, его дарами; была не вдали от всего света, но и не жалась, не лепилась к большакам, к путям водным и ямщицким.
Была она сама по себе — со своим укладом, со своею привыч-кой, со своими корнями, погруженными в лесостепные почвы.
Глава первая
Учредительное заседание
Какое случилось в боровой деревне Лебяжке событие: там была выбрана Лесная Комиссия!
Наверное, только в Лебяжке это и могло случиться, больше нигде, ни в одной другой деревне, ни в одном селении.
Осень одна тысяча девятьсот восемнадцатого года наступала, жизнь с каждым днем становилась непонятнее: порядка — всё меньше, страха — всё больше, война — всё ближе, власть — неизвестнее.
Старики хотели рассудить по деньгам: чьи деньги ходят, у того и власть. Но и тут как было понять: царские деньги ходили, керенки Временного Всероссийского правительства всё еще огромными листами, с чьими-то красными и черными напечатками ходили, советские — встречались, а веры никаким не было.
Какая там вера!
До сих пор висело над столом лебяжинского писаря Постановление № 3 Временного Сибирского правительства от 26 июля 1918 года «О регулировании хлебной торговли».
В постановлении этом говорилось о вольных ценах и тут же указывалось, какими они должны быть: пшеница 690 копеек за пуд, овес — по 573 копейки. Опять же насмешка! Издевательство над мужиком! Над трудами его и всей его жизнью, потому что никто не знает, какая цена той цене! За эти копейки хлеб свой можно продать, а что и где за них можно купить?
И насмешка эта подписана Председателем Совета Министров и Министром иностранных дел П. Вологодским, министрами внутренних дел, туземных дел и юстиции и скреплена Управляющим Ник. Зефировым.
И давно бы циркуляр этот, указ Временного правительства, мужики искурили на цигарки, но сельский писарь слишком густо смазал его мучным клейстером, приклеивая к стенке, испортил бумагу окончательно.
Нет, веры гораздо больше оказалось барахлишку — суконный мужской пиджак, солдатская шинелька, бабья юбка, ребячий картуз, а еще — иголки, спички, нитки — вот это имело цену. Притом немалую.
Размахнулась торговать кооперация, но не всюду дело удалось — где она проворовалась, где ее позакрывали власти, а где так и сами мужики отнеслись к ней с недоверием.
Барахольщики, те оказались надежнее, они же сообщали Лебяжке новости. О Сибири, о России, обо всем белом свете — что и как. Не все правильно сообщали, но и не слабее тех газеток, которые в Лебяжку попадали из Омска, Томска, Уфы, Самары, Челябинска, из Семипалатинска, Новониколаевска, из Барнаула, от различных правительств и властей. Столько их было, временных, что и сама-то жизнь тоже вот-вот временной могла сделаться.
Что было доподлинно известно: в России идет гражданская война!
Не миновать этого пожара и Сибири. Лебяжке тоже не миновать его.
Деревня Лебяжка перед всем остальным миром умела за себя постоять, главное же — умела жить сама по себе — чужого в свои дела не допускать, самой в чужие дела-заботы носа не совать.
Начальство могла ублаготворить, но так, чтобы быть от него подальше, и, когда однажды прошел слух, будто Лебяжку могут сделать волостным, базарным и церковным селом, — всего этого, всех этих почестей лебяжинцы миновали, предпочли ездить на базар в Крушиху, а попика держали скромного, обществу послушного и при малой деревянной церквушке.
При всем том попик доволен был — за послушание общество мздою его никогда не обходило.
И долгие-долгие годы было так, что все вокруг знали — лебяжинского мужика, хоть трезвого, хоть пьяного, не обидь, не задень. Все лавочники и в волости и даже в уезде опасались — лебяжинского не приведи бог обмерить, обвесить, сдачу не дать! через год, а всё равно ему припомнится, и стекла у него в магазине будут побиты, вывеска искалечена, и сам лавочник тоже в синяках запросто может оказаться.