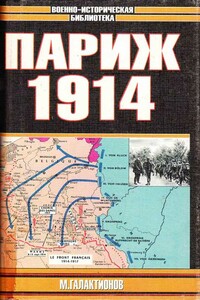Сон второй
В тесном, переполненном городе, где улицы похожи на пещеры даже днем, забываешь, что где-то есть солнце и море.
Этот сон сначала казался просто ностальгией по солнцу и морю.
Потому, что я лежал на песке, закрыв глаза. Сквозь веки чувствовал горячее солнце и легкий щекочущий ветерок, и кроме того, слышал крики чаек и плеск волн. Даже голос с причала казался сонным, странным, нереальным: «Начинается посадка на теплоход, следующий до пристани „Эрмитаж“»…
Можно было лежать так долго-долго, грезя о спокойной жизни в хижине у моря, на пустом берегу, бесконечно далеко от наркоманов в грязном подъезде, неистребимого запаха мочи в утреннем автобусе и тягостного ощущения, что все хорошее уже позади. И еще — что живешь не среди людей, а все в том же загаженном скотном дворе, и ходишь по колено в свином дерьме, ожидая забоя как праздника.
Можно было лежать… но праздники слишком быстро кончаются. Что-то заслонило солнце. Я открыл глаза.
Вместо ослепительного неба — серая пелена. Из нее валит снег крупными мягкими комьями. Море кажется черным, а берег — ослепительно белым.
Так началось мое второе путешествие в Ночной мир.
* * *
Это был, наверное, самый страшный кошмар из тех, в которых мне пришлось побывать. Хотя начиналось-то все довольно мирно. И город, и люди — ничто не вызывало беспокойства.
Квартира неподалеку от Фонтанки была совершенно прежней. И вид из окна — на ржавые крыши и узкую щель переулка. И расшатанный лифт, встроенный в этот древний дом. И даже захламленный двор.
Сосед, из крутых, был тот же. Мы не здоровались при встречах, только косились друг на друга. Он тут был новичком — в большинстве квартир этого дома еще жили блокадницы, державшиеся за свои комнатки как за последнее в этой жизни.
Оно и было последним. И одна за другой блокадницы исчезали. Их место занимали молодые, и не понять было — то ли родня, то ли убийцы.
* * *
Я ехал в автобусе. Нас было человек десять, и сидели мы спинами к окнам, а у наших ног лежал фиолетовый гроб.
За окнами плыл сумеречный город, из-за вечерних пробок казавшийся бесконечным. Можно было даже подумать, что наш автобус попал в искривленное пространство, вроде ленты Мебиуса, и все время кружит по одним и тем же улицам.
Все мы устали, замерзли, окоченели — почти как тот, что лежал сейчас за тонкой дощатой перегородкой, обитой фиолетовой тканью с оборками.
Наконец город постепенно сошел на нет. Здесь, на черной дороге, стало немного светлей. Белые поля еще хранили свет погасшего солнца, и шофер гнал чуть не под сто, словно мы не на похороны торопились, а на пожар. Понятно, что мы опаздывали — кому же охота рулить по кладбищу в темноте, и может быть, нас там уже и не ждали. Впрочем, как раз этого-то и не могло быть. Автобус был всего один — так мало людей провожали покойника в его последний путь. Я почему-то не знал, кто он. Вернее, знал очень мало. Ветеран войны, старичок, тихо скончавшийся у себя дома — в алькове каморки на шестом этаже в древнем доме на Садовой.
Провожали тоже ветераны. Все ветхие, износившиеся, — да еще вдова со сморщенным личиком, белым, как снег. Был только один человек среднего возраста — я.
На повороте промелькнул указатель: «До кладбища 11 км». «11» было зачеркнуто пожарной краской и рядом стояло: «7». Но и семерка тоже была замазана.
На кладбище нас все же ждали. У белокаменной роскошной конторы в автобус подсел местный чиновник, — при белой рубашке и галстуке, картинно выставленных из-за ворота темной драповой куртки, — стал показывать водителю путь. Чиновник был все же странным. Впрочем, осознал я это уже гораздо позднее. Кладбище было старым, огромным, многокилометровым. Следуя указаниям человечка, автобус несколько раз сворачивал, пока не уперся в столбик с табличкой: «212-й квартал».
Автобус замер среди черных худосочных болотных сосен.
— Квартал, конечно, далековато от входа, — вполголоса сказал чиновник вдове, когда она с трудом выбралась из автобуса, — но внутри квартала место самое почетное. Там вот — Герой Союза, а здесь — два Героя России. А вон там — тоже орденоносцы…
Вдова выслушала молча, строго. Открылась задняя дверь. Я хотел подхватить гроб, но меня оттолкнул старичок, благожелательно, но безапелляционно проскрипев:
— Сыновьям не положено…
Тут только я понял, чью роль исполнял. В таком случае следовало бы поддерживать вдову — она же мне мать, — но это краткое заблуждение было тут же рассеяно ею самой:
— Вы давно приехали в Питер? — спросила она.
Видимо, там, при прощании в морге, мы впервые увиделись. Может быть, кивнули друг другу, но спрашивать о приезде было и некогда, и не к месту.
— Утром, — соврал я. Потому, что не знал.
— А где остановились?
— У знакомых… Там, на Охте.
Она кивнула, и больше мы не говорили. Несколько старичков, кряхтя, вытянули гроб из допотопного «пазика» — грязно-желтого, с черной полосой посередине, — с трудом двинулись к свежей могиле — двое землекопов по команде чиновника бросились на помощь. Как-то странно из сумерек, медленно, но неотвратимо заливавших кладбище, вынырнул темный «мерседес». Бесшумно остановился на дорожке, из машины вышел священник — молодой, бородатый, в очочках. Надел на голову круглую шапочку. В руках у него было кадило, он озабоченно глянул на него, помахал. Потом — искоса — на меня: