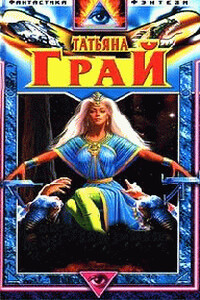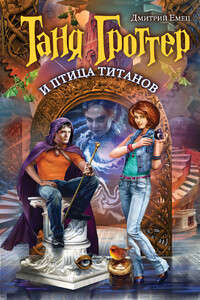Когда медсестра склонилась над Михайловым, то обдала его горячим несвежим дыханием. Руки ее дрожали, она бестолково суетилась и попала в вену лишь с третьего раза. Медсестра была неизбежным злом, которое приходилось терпеть другую было все равно не найти.
Четыре раза в неделю она приходила делать уколы и за дополнительную плату покупала продукты. У нее было серое одутловатое лицо. Брови она зачем-то выщипывала, но зато над верхней губой, ничем не сдерживаемые, топорщились усики. Жалуясь на своего сожителя, она задирала юбку на толстых венозных ногах и с удовольствием демонстрировала царапины и лиловые синяки.
Михайлов подозревал, что медсестра ворует и что хрустальную вазу, о которой сказала, что разбила, она в действительности пропила. Перед тем, как уйти, медсестра стала просить у Михайлова денег. По непонятной причине она подозревала, что у калеки кое-что припрятано.
— Вынужден вас разочаровать. Пенсия двадцатого, — сказал Михайлов. Он всегда выражался немного выспренно, что, помнится, смешило жену.
— Может, из вещей чего-нибудь? — Сиделка забегала глазами по комнате. Скажем, шаль. Я там в шкафу видела.
— Вы были в ТОЙ комнате и рылись в ЕЕ вещах? Как вы открыли дверь?
— Ничего я не рылась, просто посмотрела... Уж и посмотреть нельзя... А ключ вы оставили на кухне. Думаю, дай загляну, может, там уже все моль пожрала...
— Верните немедленно ключ!
— Да подавитесь вы! Нате!
Медсестра рассерженно стала заталкивать в сумку железную коробку со шприцами и ампулами.
— И повернется же язык! И это вместо благодарности! Да чтобы я взяла чужое... Все равно все сгниет... Ей на том свете ничего не нужно...
И она ушла, хлопнув дверью...
Легче всего Михайлов переносил одиночество. Тогда пропадало ощущение времени, и вчера смешивалось с сегодня, а сегодня со завтра.
Днем он часами сидел, уставившись в окно, или рассматривал альбом с фотографиями. На фотографиях жена и сын жили, меняли прически и платья, улыбались, ходили в цирк, а их могилы уже год как заросли одуванчиками, сквозь которые проступала верхушка креста с надписью: Инв. N 123. В этом было какое-то противоречие, пытаясь осознать которое Михайлов впадал в оцепенение, тупое, бездумное и — потому блаженное.
Все зеркала в доме были завешены. Это было первым, что он сделал, когда его выписали из больницы... Он подъехал к большому зеркалу в коридоре, подъехал очень медленно: пользоваться каталкой он тогда еще не научился, и с минуту изучал свое отражение: сгорбленный человечек в инвалидной коляске, крохотный, занимающий только самый низ зеркала... Плохо зарубцевавшиеся шрамы на щеках от разбившегося стекла, между которыми кустилась густая щетина... Но испугало Михайлова не это: самым страшным была пустота и тишина, надвигавшаяся на него со всех сторон и смотревшая со стен и книжных полок этой некогда полной веселья и счастья квартиры...
Покрывало, которое Михайлов набрасывал на стекло, все время падало, и опять зеркало отражало крохотного человечка с изрезанным лицом.
Вторую комнату Михайлов запер на ключ. Там все осталось так, как было в самый последний день, когда они торопились на дачу — одежда жены на спинках стульев, пересохшие цветы на окнах и разбросанные игрушки сына... Жена и сын погибли сразу, а Михайлов в полном сознании попал в реанимацию со сломанным позвоночником. Лежа на больничной постели, Михайлов десятки раз невольно переигрывал эту ситуацию. «А если бы он затормозил... А если бы вывернул руль...»
В этот было что-то очень скверное и циничное: собирать целый год на «десятку», занимать деньги, выбирать расцветку машины и обивку сидений и этим только приближать день и час, буквально подталкивать себя и близких себе людей к могиле.
Михайлов был за рулем машины, которая через минуту должна была стать расплющенной банкой консервов. Рядом на переднем сидении стоял ящик с рассадой и были свалены в кучу непоместившиеся в багажник вещи. Лена, держа на коленях сына, сидела сзади и рассказывала анекдот, обстоятельно и немного недоуменно, как она это всегда делала: «Сидит один мужик на кухне и вдруг слышит, что в его холодильнике что-то звенит. Он открывает холодильник, смотрит, а там телефон...» Анекдот так и остался недосказанным, но Михайлов часто пытался угадать, чем он мог закончиться. Почему-то ему казалось, что это важно.
По ночам часто повторялся один и тот же сон. Лена стоит на пригорке возле реки или озера. Лицо ее напряжено и руки прижаты к груди. Она одета в водолазку и джинсы, те самые, что были на ней в последний день. Лена не любила всякой хитрой женской одежды и косметики, требующей времени. Даже волосы она всегда стригла коротко, по-мальчишечьи, что ей, впрочем, шло. Ну так вот, сон... Рот Лены растягивается в крике, но слов нет — их сносит ветром, хотя самого ветра тоже, в общем-то, нет. Кажется, что Лена кричит ему что-то очень важное. Михайлов во сне пытается подойти к жене, но не может: ноги вязнут в чем-то, что не дает ему ступить и двух шагов.
Нельзя сказать, чтобы Михайлов верил в сны. Но боль в изувеченном теле, внутренние страдания и одиночество пробуждали у него ощущение нереальности окружающего мира, и бывали моменты, когда он плохо различал, где сон и где явь. Потом, в минуты пробуждения обыденного сознания, он говорил себе: «Все объяснимо. Дело в том, что я болен... Я боюсь увидеть этот сон, думаю о нем безостановочно и, как следствие, он снится мне ночью. Так часто бывает и это нормально. Я не сумасшедший, а если даже и сумасшедший, но это уже не важно.»