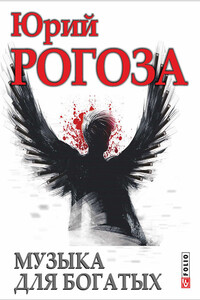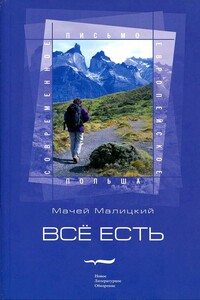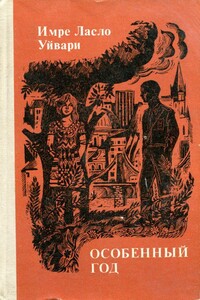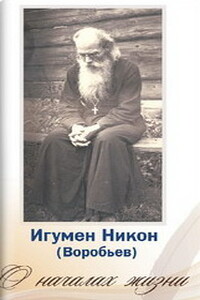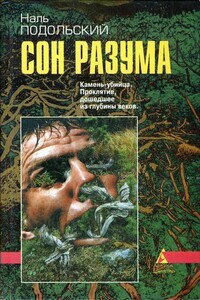Поздней весной по битой провинциальной дороге мчался веселый голубенький микроавтобусик с надписью “Ведомости” на борту. В нем ехали обозреватели большой провинциальной газеты Глеб Филин и Феликс
Бедин. Не успев толком проснуться и привыкнуть к путешествию, они молчали и смотрели на гипнотически пустой путь, где, сколько хватало взгляда, не было видно ни машин, ни людей. Мир был ясным и зябко чистым, как словно его только что сделали, застроили домиками, застелили полями и расшили птичьими трелями, но еще не заселили людьми.
Бедин рулил, орлом глядя на прыгучую тень автобуса, тщетно удирающую от своего дребезгливого источника, Филин хохлился и курил.
Эти люди до странности были сходны в своей противоположности или рознились в сходстве. Оба высокие брюнеты в очках, журналисты, выпивохи, болтуны. Они походили друг на друга, как два родных брата, один из которых закончил семинарию и стал священником, а другой пошел в разбойники, но священник вынужден скрепя сердце по-братски выполнять разбойничьи обязанности, а разбойник по совместительству читает проповеди и отпускает грехи. Проще говоря, Филин был мягкий, томный интеллигент со склонностью к полноте и меланхолии, с аккуратно подстриженной чеховской бородкой, мечтательными маслинами-глазами и привычкой долго лежать после обеда. Его хоть сейчас, без всяких изменений, можно было вставить в какую-нибудь экранизацию Чехова; по сути дела, он гораздо больше походил на
Чехова, чем любой чеховский персонаж и даже сам Антон Павлович. А еще он напоминал Обломова, Нехлюдова, Оленина, взрослого Алешу
Карамазова и прочих милых нашему сердцу персонажей старой русской литературы, поскольку сам был ходячим отмирающим явлением этой литературы, ее вырванной страницей, несомой по засоренным улицам затхлого бездушного мегаполиса обыденщины.
Его собрат Бедин тоже являл собой живую литературную страницу, но из другой книги. Если Филин был сплошная душа, сплошная нега и теплота, то Бедин вообще был не человек, а какой-то черт. Веселый, хитрый, едкий, ловкий черт, у которого, как у кошки, было девять жизненных запасов, расходуемых с двадцатикратной расточительностью.
В противоположность мягкому, округлому Филину он был сухой, жилистый, костистый, мускулистый и сильный. Глазищи у него тоже были черные, даже еще чернее и глубже, поскольку не блестели, но смотреть в них было вовсе не так же легко. Да что там говорить, смотреть в глаза Бедина вблизи было прямо жутковато, а когда он вдруг снимал очки и приближал адски-угольные зрачки к глазенкам какой-нибудь девицы, та начинала дико визжать, роняла все из рук и чуть ли не падала в обморок – на ближайшую койку. Не за это ли ощущение сладкой жути они так обожали высокого, легконогого и страшно красноречивого, но вовсе не хорошенького Феликса? Да, Бедин был тоже литературен – еще неизвестно, кто из двух друзей был литературнее,- но в отличие от Глеба он больше читал, чем писал, отказался без боя от всяких литературных претензий после двух-трех малоудачных юношеских опытов, а затем перестал писать и статейки, по собственному желанию перешел из журналистов газеты в шоферы и, как бы это выразиться, разъездные рекламно-коммерческие агенты. Брался он только за рекламные куски за наличные.
Цель командировки была туманной. В одном из наиболее отдаленных, отсталых и непроходимых районов нашей области местными жителями было обнаружено странное явление. По разноречивым и сумбурным сообщениям, то и дело поступающим из местной администрации, получалось, что в дремучих лесах, где прежде находилась база ракетных войск, появилось неведомое племя странных людей, словно речь шла о дебрях Амазонии, а не о запущенной, но достаточно загаженной районной глубинке в полутысяче верст от Москвы. По мнению прессы, странности начались вскоре после того, как разобранные ракеты были вывезены с военной базы под бдительным присмотром иностранных экспертов, военнослужащие были эвакуированы, а территория военной базы и городка, оставленная обитателями, стала стремительно приходить в упадок. Жителей полувымерших окрестностей, с опаскою ступивших на рассекреченную почву городка, ждало горькое разочарование. Все, что могло быть хоть как-то приспособлено к хозяйству, оказалось собрано, сметено и вывезено военными с какой-то вовсе не военной, мелочностью. Ни одного унитаза, ни одной дверной ручки, ни одного шпингалета или оконного стекла не оставили солдаты за собою, как будто после их ухода городок должен был достаться не собственным обнищалым согражданам, а злейшим, непримиримым врагам, каким-нибудь монголо-американцам. Если же оставалось среди гарнизонного хозяйства что-то хоть более-менее полезное, но непригодное для вывоза – батарея отопления или приваренный намертво металлический бак, то выведено из строя: подпилено, просверлено, погнуто. Пожалуй, военные не поленились бы и заминировать свое хозяйство – пусть их, собак, разорвет, чтоб не зарились, – если бы дорогие мины не годились для более важных дел.
Пожалуй, единственным сокровищем этих мест, которое не удалось ни забрать, ни продать, ни изгадить, остались обширные лесные угодья и чистое озерцо удивительной красоты, ранее недоступное. Под защитой колючей проволоки, электронных ловушек, псов, людей и пулеметов этот заповедный уголок секретной природы, одичал и разбушевался до такой первозданной степени, что с ним не мог сравниться ни один государственный заповедник, ни один заказник или национальный парк.