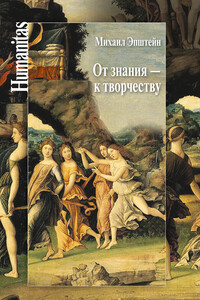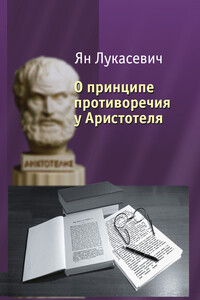В свое время на русский язык был переведен ряд трудов Н. Хомского, написанных им в 50-60 гг. XX в., в которых изложены основные положения трансформационной порождающей грамматики, в значительной степени определившей облик мирового языкознания второй половины XX в. В числе прочих была переведена книга «Язык и мышление» [Chomsky 1968; Хомский 1972 б], содержание которой отчасти перекликается с содержанием «Картезианской лингвистики ». Однако этот труд остался непереведенным, хотя он занимает особое место в творчестве Хомского, ибо в нем подробнейшим образом рассматриваются лингвофилософские концепции прошлого, которые автор считает созвучными своей собственной общеязыковой теории. Философские и психологические предпосылки последней, пожалуй, наиболее последовательно изложены в расширенном издании книги «Язык и мышление» [Chomsky 1972], в дополнительных главах, которые, к сожалению, остались непереведенными на русский язык. В них мы находим четкое объяснение причин обращения Хомского к рационалистическим построениям мыслителей XVII и XVIII вв., а также к концепциям романтиков первой трети XIX в.
Центральной проблемой лингвистической теории Хомский считает удивительный факт несоответствия между языковыми знаниями, имеющимися в уме рядового говорящего, и теми скудными данными, которые были в его распоряжении, когда он усваивал родной язык. Хомский неоднократно повторяет мысль о том, что ребенку приходится овладевать языком, опираясь на весьма немногочисленные и некачественные данные, а именно на речь окружающих его людей, которая характеризуется всевозможными оговорками, отклонениями, начатыми и незаконченными фразами. И тем не менее, воспринимая сплошные аномалии, ребенок в конце концов становится обладателем в высшей степени сложной и специфической грамматики языка, моделью которой является трансформационная порождающая грамматика (Хомский, правда, ничего не говорит о том, как ребенок, усвоив «правильную» грамматику, сам начинает, подобно взрослым, производить «неправильные » высказывания). Объяснение этому факту Хомский находит только одно: в голове ребенка имеется некий врожденный механизм, «внутренний схематизм», который и позволяет ему за разнородными речевыми данными разглядеть некую универсальную грамматику, способствующую усвоению родного, и не только родного языка [Там же, 158, 160, 174].
В теории универсальной грамматики должны быть сформулированы принципы организации языка, которые в рационалистической концепции считаются обусловленными универсальными свойствами разу ма [Там же, 107]. Хомский исходит из того, что мыслительные процессы одинаковы у всех «нормальных» людей (см. с. 185 наст, издания), а это означает, что на универсальную грамматику накладываются очень сильные ограничения, обусловленные конститутивными особенностями человеческого мышления как врожденной способности, поэтому варьирование языковых структур оказывается отнюдь не беспредельным. Таким образом, универсальная грамматика и «врожденные идеи», если воспользоваться традиционным философским термином, в концепции Хомского оказываются взаимосвязанными, и эта связь обусловлена зависимостью языковой деятельности от мыслительной, определяемой в свою очередь принципами нервной организации человека, сложившейся в ходе длительной эволюции [Хомский 1972 а, 56]. В рецензии на «Картезианскую лингвистику» X. Орслефа [Aarsleff 1970, 581] в принципе верно отмечается отсутствие обязательной связи между врожденными идеями и универсальной грамматикой; последняя может строиться и на отличной от картезианской философии основе, например, на основе философии Локка. Как бы то ни было, у Хомского по указанной причине одно оказалось тесно связанным с другим, однако следует отметить, что в его обзоре лингвофилософских концепций прошлых эпох эту связь нелегко проследить, поскольку прежде всего его интересовал иной аспект языковой деятельности, а именно ее «творческий аспект».
Теорию Хомского с традицией рационалистической лингвофилософии объединяет один очень существенный момент — это мысль о том, что первейшая функция языка заключается в выражении мысли, в то время как коммуникативная функция, функция донесения мысли до «другого», отнюдь не отрицаясь, остается в тени, считается чем-то второстепенным. Для грамматистов Пор-Рояля «говорить — значит выражать свои мысли знаками, которые люди изобрели для этой цели» [Арно, Лансло 1991, 19], и не более того. В «картезианской школе» если и учитывается коммуникативная функция языка, то она сводится к «передаче мыслей», а единственным назначением речи считается достижение понимания собеседником мыслей говорящего [Бозе 2001, 353, 354, 357]; поэтому основной задачей общей грамматики объявляется изучение способов точного выражения мыслей согласно универсальным законам логики [Бозе, Душе 2001, 242, 253]. Сходные воззрения можно обнаружить и у немецких романтиков, в частности у Гумбольдта, который полагал, что «надо абстрагироваться от того, что язык функционирует для обозначения предметов и как средство общения, и вместе с тем с большим вниманием отнестись к его тесной связи с внутренней духовной деятельностью и к факту взаимовлияния этих двух явлений»; все в языке «направлено на выполнение определенной цели, а именно на выражение мысли» [Гумбольдт 1984, 69, 72-73]. Также и Хомский считает центральным положением картезианской лингвистики идею о том, что функция языка не сводится к одной коммуникативной, ибо язык — это прежде всего основное орудие мышления и самовыражения (см. с. 66 наст, издания). С этим связана идея, которую можно рассматривать как центральную в лингвофилософской концепции Хомского, — идея о творческом характере языковой деятельности не только в сфере высокой поэзии, но и в области обыденного общения. Говорящий, используя конечные средства, способен порождать бесконечное количество новых высказываний, которые он ранее никогда не произносил и не воспринимал. Более того, говорящий способен мыслить и оформлять в языке свои мысли спонтанно, независимо от внешних и даже внутренних стимулов. По этому пункту Хомский постоянно полемизирует с воззрениями своих предшественниковбихевиористов и в свете этой полемики он прежде всего и рассматривает рационалистические концепции XVII - первой трети XIX вв. В то же время свободное мышление и свободная речь человека, не обремененного ограничениями конкретного процесса коммуникации (который в теории Хомского принципиально не рассматривается), взаимосвязаны с самостоятельностью человека в общественно-политическом плане, о чем свидетельствуют пространные выдержки из сочинений Руссо и Гумбольдта. Удивительным образом философия и лингвистическая теория Хомского гармонично сочетаются с его политическими убеждениями, подобно тому как в его личности оказались нераздельно слитыми ученый, философ и общественный деятель левых убеждений.