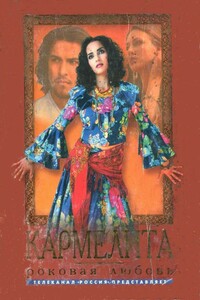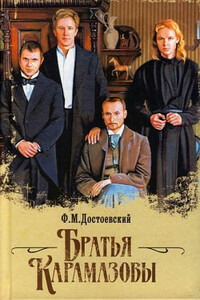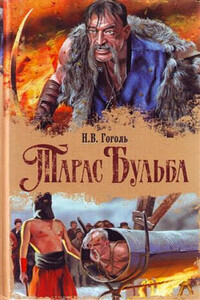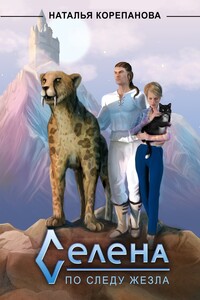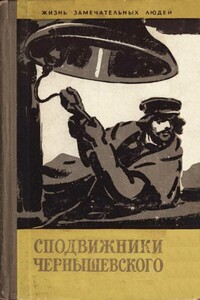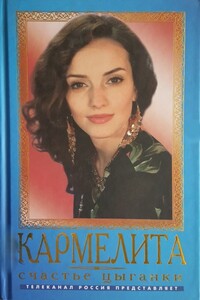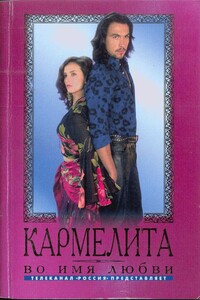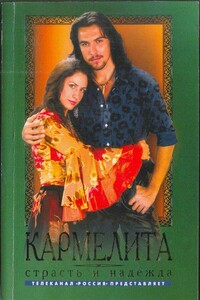Сколько помнила себя Кармелита, табор все шел и шел, осенью — на юг, весной — на север. Конечно, точнее было бы сказать — ехал. Только так никто не говорил. Была в этом слове — «ехать» — глупая суетливость, намекающая на конечность пути. А табор — он идет.
В пути столько интересного!
Особенно летом. Можно задирать мальчишек, можно заливисто ответно лаять на остающихся позади деревенских собак. Но лучше всего — дождаться привала, чтоб залечь в душистую траву. И втягивать, впитывать в себя всем телом эту знойную, жужжащую летнюю жарынь.
Так проходили медленные детские минуты и даже часы. А там, глядишь, и отец Кармелиты Баро Зарецкий вдруг задумывался: а где ж это его хорошая, его единственная девочка? И начинал выискивать шалунью среди цыганских машин, мотоциклов и старинных кибиток. Да не молча, а с зычным баронским криком:
— Кармелита-а-а!..
Заслышав отца, девочка хитро улыбалась в предвкушении новой игры. Прижав ноги к груди, она сворачивалась в маленький смуглый калачик — ждала, когда же ее найдут. А вот сердце, напротив, начинало стучать предательски громко. И как ни успокаивала его Кармелита, оно гулко выводило размеренную барабанную дробь: «Бум! Бум! Бум!»
Наверняка именно из-за этого громкого стука отец находил ее до обидного быстро — в полминуты. Шел он по-цыгански тихо, не пиная, а поглаживая ступнями матушку-землю, дарительницу вечной дороги. Но все равно сухие, хрусткие стебли отмершей травы выдавали его приход. В предвкушении развязки барабанная дробь в груди становилась быстрой-быстрой: «Бум-бум-бум-бум-бум…»
И вот, наконец, с криком «А, вот ты где!..» Баро хватал дочку-комочек и быстро-быстро бежал с ней к своей лошади, забрасывал ее на седло, сам прыгал следом.
Так начиналась еще одна любимая игра Кармелиты — сумасшедшая скачка по буйным волжским склонам. Топот копыт, свист в ушах, упругий ветер, бьющий в лицо, мускулистая мощь красавицы-кобылки по кличке Ночка и спокойная сила отца-всадника…
Как же не хотелось, чтобы в одно мгновение все это обрывалось! Но…
Зарецкий всегда останавливал Ночку у реки. Вот уже много лет табор Зарецких кочевал вдоль Волги. А часто и за реку забирался (оттого их и назвали Зарецкими). Другие ромы смеялись: «Эй, Зарецкие, что за странная какая любовь к Волге. Любить надо румны-женщину, а не речку!»
Наверно, от этих обидных слов Зарецкие иногда пытались уйти от Волги куда подальше. Однако ж всегда к ней возвращались. Нет, видно не зря столько народов называют ее Матушка-Волга!
А потом становилось темно — наступала ночь. Хотелось чего-то загадочного, страшного. И тогда девочка шла к самой древней кибитке, где лежала-отдыхала прабабушка Ляля-Болтушка. Из детей к ней ходила только Кармелита. Даже мальчишки побаивались старуху (хоть никому в этом не признавались).
Годы иссушили Лялю, когда-то, говорят, страшно красивую. А теперь — красиво страшную. Целыми днями она лежала в кибитке, потирая искривленные старостью руки и ноги. Оживлялась Ляля лишь к вечеру, приняв «глоточек водочки» (только глоточек и никогда больше). Тут-то к ней и приходила Кармелита, и начинали разговаривать обо всем — обо всем. О Боге, живущем в высоком небе, о хитром и веселом цыгане Зубчане, прославившемся на всю Волгу, о жизни, природе, пути, смерти…
А однажды Кармелита захотела узнать о любви.
— Сколько же тебе лет, лачо-хорошая? — удивилась Ляля.
Кармелита подумала, чтоб не ошибиться, и очень уверенно ответила:
— Шесть.
— Тогда понятно, — кивнула старуха. — Большая уже. В следующем году работать начнешь, с бабкой своей — Рубиной, да с другими женщинами гадать станешь…
— Да? — удивилась Кармелита, она не знала, что в ее жизни грядут такие перемены.
— Да.
— Ляля, Ляля! Погадай мне! — защебетала девочка.
— Я своим не гадаю.
— Ну, тогда… научи гадать!
Старуха улыбнулась, раскусив и оценив хитрость девочки.
— Поучить — это да. Поучить — это можно…
Ляля задумалась, выбирая способ гадания.
Кармелита терпеливо ждала, боясь вздохнуть громче обычного.
Наконец Ляля произнесла:
— Неси бумагу, внученька. Да только смотри, чтоб чистая, не изгвазданная!
Девочка убежала и вернулась со старой газетой, в которую раньше была завернута банка сметаны, выцыганенная у селян.
С неожиданной ловкостью Ляля приподнялась и села, скрестив по-турецки ноги. Тут же откуда-то достала поднос и спички.
— Комкай газету, внучка. Комкай! И думай о жизни будущей…
Кармелита сморщила лоб и принялась старательно жамкать газету. Через пару мгновений бумажным комочком, образовавшимся в ее руках, вполне можно было играть как мячиком.
Старуха важно приняла белый комок, положила его в центр подноса и скомандовала:
— Лезь ко мне, в кибитку.
Мальчишки из табора вряд ли б залезли, а Кармелита не побоялась. Примостившись рядом с бабушкой-гадалкой, она завороженно смотрела на комок.
Ляля чиркнула спичкой, тихим шепотом что-то сказала. И совсем уж догорающей спичкой подожгла газету. Та сразу вспыхнула, отбрасывая на полотняную внутренность кибитки рыжеватые блики и тени. Это было как кино — только успевай следить. Бумага горит быстро. Поэтому и огненные картинки сменяли друг друга все бойче: кони, люди в сшибке, могильный бугорок, ножи и снова люди… А вслед за этим калейдоскопом, точнее даже — наравне с ним, шли Лялины слова, все быстрее слетавшие с сухих губ: