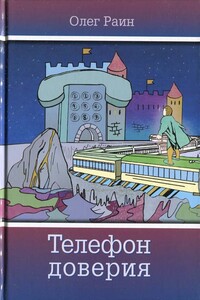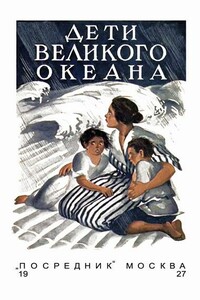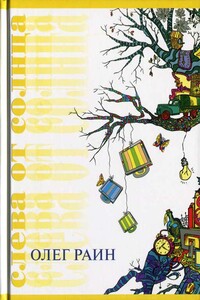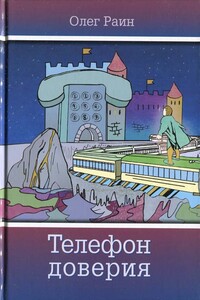— Да ты гоблин!
— Сам, блин, гоблин!
— Кто, блин, гоблин?!
— Молодые люди! Потише можно?
Я чуть склонила голову, чтобы разглядеть первопричину шума. В проеме между кресел увидела сидящих впереди «молодых людей». Любителям «печь блины» было, пожалуй, лет по пятнадцать — немногим старше меня. Но, в самом деле, гоблины. Толкали друг дружку локтями, шипели, точно гуси, и по-прежнему продолжали спор. Соседи поглядывали на них с осуждением. Хотя странно… Боинг ревел так, что любой шум казался несерьезным. Подумаешь, парочка лишних децелов-децибелов…
Я вернулась к дневнику и размашисто вывела:
«Новый Год в Париже — что может быть чудеснее! Родина синематографа и родина первых дагерротипов — дедушек и бабушек современной фотографии, город Наполеона и Луи де Фюнеса, город, по которому бродили белые генералы Врангель, Деникин, Кутепов, город, где жил знаменитый Куприн»…
Я нахмурилась. Врать в собственном дневнике становилось делом привычным. А что! Все кругом врут. Чтобы историю встопорщенную причесать, макияж в мемуарах подвести. Вроде программы «Фотошоп». Один мой знакомый фотограф таким образом известным стал. Ему и семейные фото заказывали, и снимки для портфолио, и документы. Фотограф до того увлекся сведением бородавок, сглаживанием морщин и увеличением лбов, что одного из его клиентов задержали, в конце концов, на паспортном контроле. Пограничников возмутило дикое несходство с оригиналом.
И все равно, правду катать — скука. Опухнешь раньше времени. Даже Париж, если говорить правду, в дутышах может оказаться! А что? Город позы и жеманного жеста. Город ахов и охов, которые я терпеть не могу…
Ах, вы не бывали еще в Лувре! Непременно зайдите!
Ах, этот дворец Тюльри! Ах, этот дивный Монмартр!..
А еще чудные устрицы под белым соусом, морские гребешки по-провансальски, утиное карпаччо, ризотто с лангустами! — и все с восклицательными знаками! Не тошнит?
И, между прочим, именно в достославном Париже погибла моя любимая принцесса Диана. И тех же белых генералов здесь же отлавливали. Деникин, правда, успел срулить за океан, а вот генерал Миллер не успел. И Врангель с Кутеповым не успели. Кто там у нас остался? Куприн? Так он едва не умер в Париже с тоски-печали. И великий Гайто Газданов вынужден был бомбить на такси, влачить полунищее существование. Словом, причин, чтобы относиться к этому кружевному городу без особых восторгов у меня хватало. Однако я твердо знала, что писать об этом в дневнике ни за что не стану. Ворчунов на свете без того, как перхоти, а дневники, по-моему, надо писать веселые — такие, как у Юрия Никулина, например. Или у Льва Дурова. Чтобы потомки листали и завидовали. А начну грусть-зеленку размазывать, обзовут, как моя мама, капризной маркизой и читать не будут. Тоски у всех своей хватает — и синей, и самой черной.
Вот и буду веселиться!
Наперекор всем!
Шариковая ручка вновь энергично заплясала по бумаге: «Нет, все-таки я везунчик! Хоть и типичная ОРД. В переводе — обычная российская девчонка. Нас меньше, чем в бывшем СССР, но все еще орды. И вместе мы — одна развеселая Орда. Родители у нас — олды, и вообще орднунг — по-немецки порядок. Порядка у нас, правда, нет, но, может, это и хорошо?..»
Я снова отвлеклась, устало размяла пальцы. Прямо не дневник, а выделывание какое-то! Отложив ручку, искоса поглядела в иллюминатор: там вовсю сияла первозданная лазурь, внизу сугробами скользили облака — чистые, не оскверненные окурками и пивными жестянками. Крыло у боинга напряженно покачивалось, явно раздумывая, не отвалиться ли совсем, но гоблины, что сидели впереди, ничего не замечали и с хихиканьем что-то пихали друг другу за шиворот. Я подумала, что если крыло все-таки отвалится и мы начнем падать, они и тогда затеют какую-нибудь свару. «Это ты, блин, виноват — самолет раскачивал!.. Да сам дятел! Кто в туалете курил!.. И чё? Самоль с курева глюкнул?..». И так далее в том же духе.
Я покосилась на дневник и, собрав все свое мужество (или что там у девчонок положено собирать?), упрямо продолжила:
«Имечко, между прочим, у меня тоже классное — Жанна, но отныне я буду зваться Жаннет. Поскольку Франция все переиначивает на свой лад. У них даже ударения ставится на последнем слоге. Для пущей загадочности. Французы вообще строят из себя загадочных. Через одного — Жюльены да Сорели… А в общем, мы летим прямехонько на запад. Земли нет, она съедена облаками, а мы еще выше. За бортом — колотун: пятьдесят два градуса, так что если кто рискнет распахнуть иллюминатор, враз станет сосулькой. И все мы станем. Красивая получится картинка! Самолет садится, подкатывают трап, а внутри полторы сотни застывших изваяний! Самое красивое, конечно, мое, — на меня и будут все таращиться. Да еще, может, на двух гоблинов, что так и замерзнут, сцепившись в последней схватке. Само собой, нас тут же позолотят и развезут по ближайшим музеям. Меня, конечно, в Лувр (ах, этот Лувр!), старичка, что рядом со мной, в дом инвалидов (ах, этот Дом!), а гоблинов (если сумеют растащить), наверное, в каком-нибудь парке прислонят, в Булонском или Венсенском, короче, вроде наших женщин с веслами…»