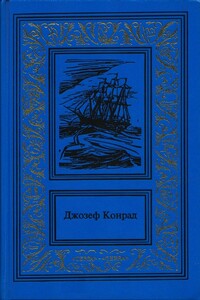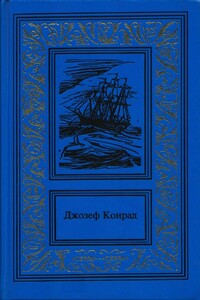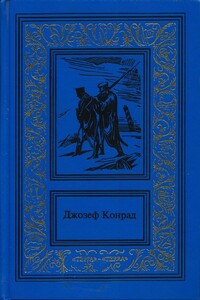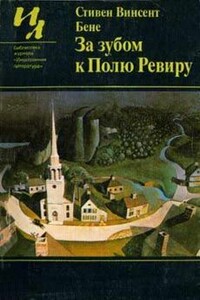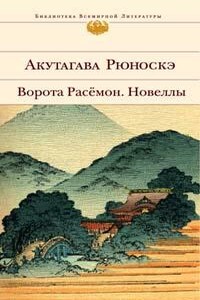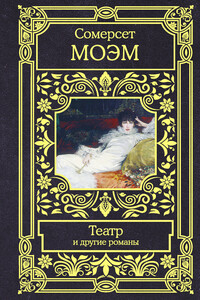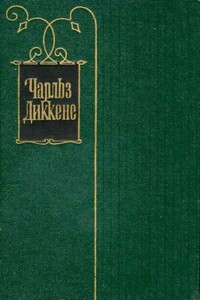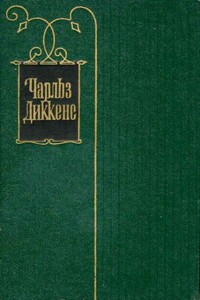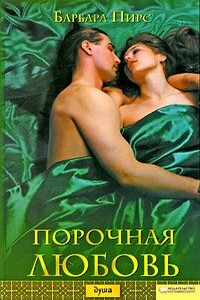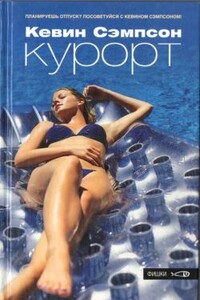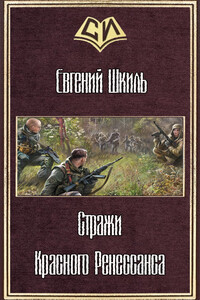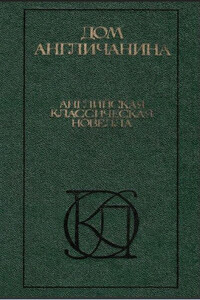— Каспар! Макан!
Хорошо знакомый Олмэйру визгливый голос спугнул его мечту о счастливом будущем и вернул его к неприятной действительности. Пренеприятный голос! Олмэйр слышал его в течение многих лет, и с каждым годом он становился ему все противнее. Но не беда, — всему этому скоро конец!
Он беспокойно пошевелился, но больше ничем не отозвался на оклик. Опершись обоими локтями на балюстраду веранды, он продолжал пристально глядеть на широкую реку, равнодушно и торопливо протекавшую перед его глазами. Он любил глядеть на нее в часы заката, может быть потому, что в это время заходящее солнце зажигало воды Пантэя золотыми отблесками; а мысли Олмэйра часто вращались вокруг золота — того золота, которого ему не удалось добыть, которое другие добыли — бесчестным путем, разумеется, — того золота, которое он еще надеялся добыть честным трудом для себя и для Найны. Он весь ушел в мечту о богатстве и могуществе, которым он будет наслаждаться далеко, далеко от этого побережья, где он прожил столько лет. Он забывал горечь трудов и борьбы в ожидании грядущей великой и блестящей награды. Они с дочерью будут жить в Европе. Они будут богаты и почитаемы всеми. Перед лицом ее дивной красоты и его огромного богатства все и думать забудут о том, что Найна — дочь темнокожей. Глядя на ее торжество, он сам вновь помолодеет, позабудет о двадцати пяти годах мучительной борьбы на этом берегу, где он чувствовал себя пленником. И все это вот-вот будет у него в руках — стоит только Дэйну вернуться. А вернуться он должен и даже очень скоро; ведь в этом он лично заинтересован, так как ему предстоит получить свою долю. Он опоздал на целую неделю! Может быть, он вернется сегодня вечером.
Так думал Олмэйр, стоя на веранде своего нового, но уже разваливающегося дома — этой последней неудачи в его жизни-и глядя на широкую реку. Сегодня река не отливала золотом; она вздулась от дождей и катилась перед его рассеянным взором бурным и мутным потоком, неся мелкий сплавной лес и крупные бревна, а временами даже целые вырванные с корнем деревья со всеми ветвями и листьями, среди которых вода сердито крутилась и бурлила.
Одно из таких плывущих деревьев прибило течением к пологому берегу как раз против дома; Олмэйр, перестав на минуту мечтать, с вялым любопытством принялся наблюдать за деревом. Обдаваемое шумящими и пенящимися волнами, оно медленно повертывалось, и вскоре, преодолев препятствие, снова поплыло вниз по течению. Медленно переворачиваясь, оно поднимало кверху длинную обнаженную ветку, подобную руке, воздетой к небесам с немым проклятием ненужному и грубому насилию реки. Олмэйр почему-то все более и более заинтересовывался участью этого дерева. Он даже перегнулся через перила, чтобы посмотреть, минует ли оно отмель внизу. Оно миновало ее, тогда Олмэйр выпрямился и подумал, что отныне путь дерева свободен вплоть до самого моря. И он позавидовал этому бездушному предмету, постепенно удалявшемуся и сливавшемуся с темнотой. Когда он совершенно потерял бревно из виду, он задумался о том, как далеко уйдет оно в открытое море. Куда понесет его течением, — к северу или к югу? Вероятно, к югу. А затем оно поплывет куда-нибудь к Целебесу, а может быть, и Макассару.
Макассар! Пылкая фантазия Олмэйра опередила дерево в его воображаемом странствии, но память его, перенесясь назад лет на двадцать или больше, в мгновение ока воскресила перед ним молодого Олмэйра, стройного, со скромными манерами, в белом костюме. Вот он высаживается на макассарской пристани. Он приехал сюда искать счастья в конторах старика Гедига. Это была важная пора в его жизни, начало нового существования. Отец его, мелкий служащий ботанического сада в Буитензорге, разумеется, рад был пристроить сына на службу в такой фирме. Да и сам юноша не прочь был покинуть нездоровые берега Явы и убогую обстановку родительского дома, где отец день-деньской ворчал на тупость садовников-туземцев, а мать, развалившись в качалке, непрестанно оплакивала покинутый Амстердам, где она воспитывалась и пользовалась почетным положением в свете, как дочь торговца сигарами.
Олмэйр покинул отеческий кров с легким сердцем и с еще более легким карманом; он хорошо говорил по-английски, был силен в арифметике и готовился покорить мир, ни минуты не сомневаясь в успехе.
Теперь, двадцать лет спустя, задыхаясь от жары борнейского вечера, он со скорбным удовольствием вспоминал высокие и прохладные склады Гедига, с длинными, прямыми проходами между бочками джина и тюками манчестерских товаров и с бесшумно распахивающейся входной дверью; вспоминал их слабое освещение, такое приятное после ослепительного уличного света, маленькие отгороженные закоулочки между грудами товаров, где конторщики-китайцы, аккуратные, свежие, с печальными глазками, молчаливо и быстро писали что-то; вспоминал грохот бочек и ящиков, передвигаемых и перекатываемых рабочими под аккомпанемент тихой песни, внезапно оканчивавшейся отчаянными вскриками. В дальнем конце помещения, против входной двери, было отгорожено обширное, хорошо освещенное пространство; шум долетал туда приглушенный расстоянием, и в воздухе носилось нежное непрерывное звяканье серебряных гульденов; счетом этих гульденов занимались другие китайцы, такие же скромные; они складывали монеты в столбики под наблюдением мистера Винка, кассира, гения-покровителя этого места и правой руки хозяина.