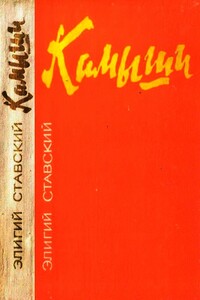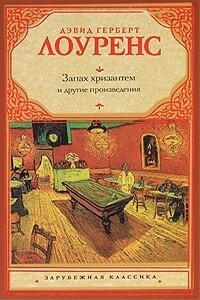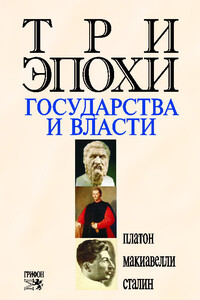Между деревьями мелькнул рекламный щит, открылась небольшая, запруженная людьми площадь, и, значит, мы приехали. Кое-как еще можно было втиснуться на стоянке справа, но Оля повернула зеркало к себе, и лишь чудом я не царапнул чей-то новый «Москвич». Наконец, поставив машину, я протянул ключи Оле. Она словно только сейчас поверила, что перед нами в самом деле был аэропорт. Посмотрела на меня, потом на ключи и вместе с пудреницей швырнула их в сумку.
Я взял рюкзак и открыл ей дверцу. Да, ноги у нее были все же поразительной красоты, и она вполне имела право подпрыгнуть от радости, когда в моду вошли мини-юбки. Вместе с мини-юбками вошла в моду и Оля, ее спортивный тип.
— Постарайся не забывать про воду. Но лучше все же съезди на станцию.
— Бог ты мой! — усмехнулась она, с силой захлопнув дверцу. — До чего же трогательная забота о каком-то железном моторе.
Пожалуй, мы приехали чересчур рано. Оставалось еще минут сорок.
Я кинул рюкзак за плечо, и мы двинулись к невысокому и такому же, как эта площадь, ничем не примечательному зданию со шпилем. А ведь именно здесь наиболее ощутимо как раз и витал дух века, когда жизнь каждого была так наглядно поставлена в зависимость от труда многих, и человек с привычной уже доверчивостью, как само собой разумеющееся, вручал себя прогрессу. И все же печать какого-то особого напряжения лежала на этой снующей толпе, пестрой от южных букетов и сеток со спелыми уже яблоками. Во всяком случае, взглянув на эту толпу, я почувствовал физически, что улетаю действительно.
В громадном вестибюле, где иностранцы пасли стадо своих чемоданов, я купил газету, десяток кремней для зажигалки, и мы поднялись в ресторан.
Окинув зал цепким взглядом, Оля села и возненавидела меня снова.
— Почему я должна после бессонной ночи сидеть в этом дыму и видеть пьяные рожи? Я не могу слышать само это слово «коньяк». — Она посмотрела фужер на свет: — Они грязные. Нет, заказывать буду я. — И, отодвинув фужер, выхватила у меня карточку: — Здесь все грязное. Все.
Она замолчала, но глаза ее в это время говорили, и, пожалуй, еще красноречивее. Мужчины, как обычно, из всех углов уже пялились на Олю, готовые к любому бескорыстному подвигу назло неудавшейся жизни, которая лишь сейчас обнажила им свой истинный смысл.
— Так вот, я тебе выбрала. Пей нарзан, если тебе вообще что-то нужно в жизни. А себе я возьму стакан томатного сока.
Я промолчал и посмотрел вниз, на поле, где разворачивался самолет и полз узенький оранжевый автопоезд. В том-то и дело, что сегодня я имел право только на воду. Ничего больше. Просто нельзя было ничего больше. После Миуса мне были противопоказаны не то что самолеты, а даже лифты.
— И когда же ты собираешься сообщить о себе? Или я должна буду узнавать о тебе от этого Петьки Скворцова? И учти, я выселю этого мусорщика из Ленинграда, чтобы тебе не с кем было ходить по пивным. Тогда наконец ты, может, сядешь за стол… А почему ты не взял с собой пишущую машинку, если ты едешь на этот Миус, чтобы работать?
— Не говори, пожалуйста, «этого» Петьку. Я прошу тебя.
— А для меня они все «эти», — выкрикнула она, — твои призраки из прошлого! Этот твой Миус, какие-то Кости Рагулины, твои фронтовые Ниночки, про которых мне уже надоело слушать. Почему эта война до сих пор должна мешать людям жить? (И белая блузка, казалось, сейчас разорвется у нее на груди, открыв тем самым, что на длинной и тонкой шее всего лишь золотая цепочка и никакого медальона или крестика, как я придумал себе когда-то, там, в таинственной и тесной глубине, нет.) И почему вообще ты должен снабжать деньгами этого Петьку? Чтобы он их пропивал? И еще покупать ему путевку на Кировские острова. Или ты совершил в жизни какое-то преступление, и он об этом знает? Может быть, это ты ему искалечил ногу?..
— Только минеральной воды и томатный сок, — сказал я официантке и сдул со скатерти оставленный кем-то пепел.
В этом ресторане как будто никто не торопился. Приземлился еще один самолет, волоча за собой парашют.
— Какой там она объявила рейс?.. И ведь ты не пошевелишься, чтобы нас обслужили быстрее! Посмотри, этот тип с портфелем пришел вместе с нами, а уже ест и пьет. Мне надоело, что он смотрит на меня. Я не слышу рейс.
— Я слышу, Оля.
По движению ее рук я понял, что она беспрерывно натягивает юбку на свои великолепные, точеные колени — знак незаслуженной обиды. Она тянула и тянула юбку, а я видел, что глаза ее страдают, и мне стало не по себе. Все, чего она хотела, — жить спокойно и тихо, эта категоричная как ребенок, самолюбивая, стройная Оля. «Мне давали двадцать, когда мы встретились, а теперь дают все тридцать». Да, она похудела, лоб тоже не тот идеально гладкий, каким был еще три года назад, когда я познакомился с нею. В темных глазах сейчас чернота. Уступив мне, она давно уже перестала краситься. Но завтра она снова сможет, если захочет, привезти от мамы свои коробки, тюбики, кисточки, — хотя в общем-то зря. Без грима ее лицо было светлым и прозрачным, было притягательным.
Сок в ее стакане оседал, опадал ступеньками, на стекле оставались подтеки и рыжеватые крупинки, а у края — вытисненный широкий и четкий узор губ. Еще ровно на два пальца этой густой красной жидкости. Еще меньше. Наконец, запрокинув голову, она тихо всхлипнула, и я увидел, как медленно вытекли последние капли, обнажив целиком зеленое дно стакана, ее зубы и даже кончик ее языка, который медленно шевелился и осторожно исчез. Ее нога коснулась моей, прижалась сильней и еще сильней. Куда и зачем меня несло от нее? Что с нами произошло?