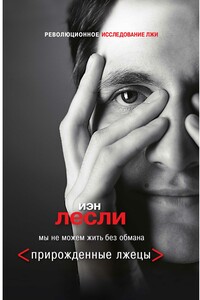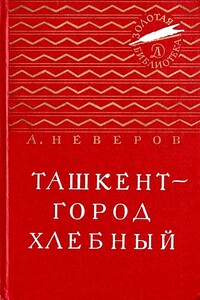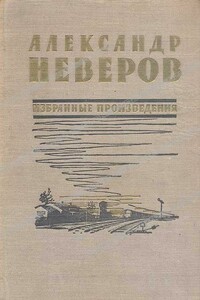КАК У НАС ВОЙНА БЫЛА
(Рассказ мальчика)
Лег я в эту ночь на полу около скамейки, а мне чего-то не спится. Лежал-лежал, тут еще нога зачесалась и пить захотелось маленько. Поднял я голову, а в избе у нас, как в погребе, — не видать ничего. Слышно только мама дышит на кровати да корова за стеной чешется, и будто мышь в углу лапкой скоблит. Напугался я, опять хотел уснуть, с головой закутаться, а в это время в колокол на церкви ударили, кто-то под окошком закричал. Вскочила мама с кровати, а я лежу ни живой, ни мертвый, и язык у меня не ворочается. Гляжу без огня, сам ничего не вижу. Мама по избе бегает, спички ищет, чтобы лампу зажечь, а спички, словно нарочно, делись куда-то.
— Санька, Санька, — кричит мне мама. — Проспись скорее, сынок, случилось чего-то у нас…
Слышу я, как она бегает, а подняться боюсь, и ноги у меня начали дрожать, и горло будто веревкой перетянули мне. Хочу, хочу сказать, что я не сплю, а голос будто не мой стал. Вдруг вся изба наша затряслась, зазвенели окошки, будто кто ударил по ним. Вскочил я босиком и давай кричать:
— Мама! Мама!
Я ее ловлю за руку, не пымаю никак, она меня ловит за руку, не пымает никак, потому что в избе больно темно и сами мы с перепугу не видали ничего. Стукнулся я головой о косяк, мама ведро ногой уронила, по всему полу вода полилась. На улице собаки завыли, за стеной корова наша замычала. Совсем я не помню, как мама спички нашла, зажгла лампу, сама трясется вся и я около нее дрожу. Мне бы делать надо чего-нибудь, а я и сам не знаю, чего мне делать. Мама кричит над головой у меня:
— Санюшка, миленький, война начинается. Куда мы с тобой побежим?
Тут как грохнет на задах у нас, я инда присел маленько. Гляжу — прямо в дверь, из сеней к нам бежит тетка Прасковья в одной рубашке и скалку держит в руке. Мама хотела ж то-то сказать ей, а она, как замахнется скалкой:
— Туши огонь! Казаки по избам ходят…
Туши огонь! Казаки по избам ходят…
Машет тетка Прасковья скалкой, а в окошко будто молния сверкнула. Тут я еще больше испугался. Мама в сундучишко полезла, чугунки без памяти собирает, стонет, охает, а я, как мертвый, стою. Она меня за руку дергает, кричит, словно глухому:
— «Санька»… — а я с места тронуться не могу. Тут опять ударило на задах, ухнуло и давай щелкать, будто кнутом пастушьим. Сначала не понял я, думал — нарочно кто баловает, потом догадался, что это из ружей стреляют. Схватила мама тятину шубу, напялила на себя, а в руках чугунок с кашей держит, сует мне его, сама чуть не плачет:
— Держи, держи, бежать надо…
Взял я чугунок, мама схватила ботинки из-под кровати, хлеба каравай, ведро пустое, и оба мы выбежали на улицу. Прижимается она к забору и мне велит наклониться. Наклонюсь я пониже, чугунок падает из рук, не видать ничего. Оступился я тут в одном месте, как полечу через кочку, и чугунок мой в сторону покатился, насилу нашел его, а мама в потемках кричит:
— Скорее! Скорее!
Бежим мы с ней, и навстречу нам бегут. Кто верхом скачет, кто на телеге. В одном месте старуха Липатова наткнулась на нас с иконой в руках, а Сидоров старик сидит на карачках в переулке и кричит:
— Батюшки!.. Батюшки!..
Лошади ржут, ружья трескают, и будто молния все время играет над нашим селом.
— Мама, говорю, куда нам бежать?
— Мама — говорю — куда нам бежать?..
А она не оглядывается, бежит и голос мой не слышит. Выбежали мы в дальний переулок, а из другого переулка прямо на нас трое верхом скачут.
Трое верхом скачут…
Я взял и присел маленько около плетня, чтобы не видать меня было, а мама не знала, что я присел, побежала дальше. Хотел и я бежать за ней, а в это время стрелять в переулке начали и все мимо. У меня инда волосы поднялись на голове. Держу чугунок с кашей, сам думаю: убьют или нет? Гляжу, а наш коммунист, Павлов Иван, бежит, — по голосу я его узнал — и прямо на солдата, который на лошади. Треснул Павлов из ружья, лошадь на дыбы взвилась и как грохнется прямо на землю, и солдат около нее упал. А я через него бегом, бегом, и убежал из переулка.
— А я через него бегом, бегом…
Бегал, бегал по чужим гумнам, и сам не знаю, куда больше бежать.
Слышу, опять на улице стреляют и чья-то изба загорелась. Гляжу хорошенько, будто не наша, а сам не верю: можа, наша? Сел я тут на гумно около соломы и давай плакать. Мне не избу жалко, наплевать — изба, пускай горит; мама вспомнилась: пымают ее солдаты, возьмут да застрелят нарочно, и останусь я без отца и без матери. Отец-то, может быть, и теперь бы жив был, если бы не записался в коммунисты. А он записался, поехал в город, дорогой его и убили казаки.
Сидел, сидел я на гумне около соломы, плакал, плакал, маленько полегче мне стало. Ноги начали зябнуть. Забыл я обуться дома, выбежал босиком, а тут дождик пошел накрапывать, сначала реденько, потом все сильнее. Зарылся я в солому, вспомнил, что у меня каши чугунок и давай пальцем ковырять ее.
Наелся будто голодный, согнулся над соломой, думаю:
— Зачем я кашу ел?
Кругом омета тихо стало, не слыхать ничего, ровно ушли все с этого места или в ушах у меня заглохло. Лежу, а сам все думаю, думаю, разные картины в голову приходят: тятю покойного вспомнил, как он коммунистом был, маму, как она двоих коммунистов на погребе прятала, и показалось мне, что я тоже коммунист, и если нападут казаки на меня, обязательно застрелят и разговаривать не станут. Подобрал я левую ногу, прислушался одним ухом, говорю себе: