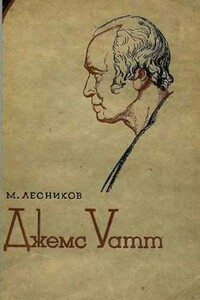Вздрогнув, Соня в который уже раз открыла глаза, вытаращила их в темноту, прислушалась. Даже голову приподняла от подушки. Нет, и сколько можно себя изводить? Все равно ж не заснешь под эту сердечную свистопляску, которую она сама себе устроила. Вон как сердце бухает в глубине организма, сотрясая его глупой мистической лихорадкой. Смешно, честное слово! Ей-богу. Со стороны посмотреть – самой стыдно. Лежит глубоко за полночь взрослая девица в своей постели, в своей почти уже собственной квартире, прислушивается к подозрительным ночным шорохам…
На кухне в этот момент и впрямь что-то пискнуло тоненько, потом скребнулось, потом прошлось легким ветром по бамбуковым висюлькам, символически отделяющим кухню от комнаты. Соня замерла, сглотнула забившееся в истерике и норовившее спрятаться в горле сердце, нашарила кнопку маленького допотопного ночника, сиротливо пристроившегося в изголовье. Хотя толку от него, от ночника этого… Сразу тени подозрительные побежали к окну, старинный буфет в углу высветился сердитой горбатой горою, и даже, как ей показалось, листья фикуса в кадке у окна вздрогнули в едком недовольстве – ишь, нервной какой оказалась их новая хозяйка…
Нет, не любила ее эта квартира. Не принимала никак. Отторгала от себя всеми возможными способами. Тосковала, наверное, по прежней хозяйке, Анне Илларионовне, отошедшей полгода назад своей умудренной долгим земным опытом девяностодвухлетней душою на небеса. Не к месту была среди этих старых вещей Соня. Может, надо было вынести их отсюда, вещи эти? Надо было, конечно, только рука не поднялась. Да и Томочка, озабоченная своей неугомонной страстью к «ничегоневыбрасыванию», ей бы этого не позволила…
Тихо вздохнув, Соня решительно откинула одеяло, прошлепала по старому, в некоторых местах совершенно уже неприлично шершавому и занозистому паркету к выключателю, зажгла большой свет. Могучая хрустальная люстра-старуха засветилась тускло и нехотя, качнула тяжелыми, пыльно-серыми, как седые клоки волос, висюльками – так просыпается человек, разбуженный чужой вероломной бестактностью и явно демонстрирующий свое этой бестактностью недовольство. Соня даже улыбнулась ей наверх просительно – извините, мол, меня, дорогая люстра, великодушно. Побеспокоила вас среди ночи. А что делать? На кухне вон что-то пищит и все время скребется… Надо ж проверить, хоть и страшно…
На кухне, что вполне естественно, никого не было. Расхлябанная створка форточки гуляла себе под напором августовского ветра, производя те самые попискивания и поскребывания. А может, и не от ветра она гуляла. Может, это дух усопшей Анны Илларионовны ее туда-сюда тягал, влетал и вылетал обратно, растворяясь в прохладной сырой темноте августовской ночи. Вполне может быть. Не просто ж, поди, вот так, за здорово живешь, взять и покинуть привычную территорию, на которой протекла вся долгая земная жизнь…
Перекрестившись неумело и торопливо, Соня взгромоздилась сначала на старый табурет с дырочкой посередке, потом коленкой оперлась о подоконник, притянула створки форточки на положенное им место. Странно, какие высокие окна в этой квартире. И подоконники широченные. Вот у них, например, с Томочкой дома все было наоборот: протяни руку – и достанешь до форточки. А о подоконниках и говорить нечего – не было их вообще как таковых и в помине. Томочка, большая любительница всяких горшочно-мещанских растений, помнится, очень страдала по этому поводу…
Ну вот. Теперь, кажется, порядок. Теперь можно уснуть, наверное. Хотя сна – ни в одном глазу. Весь в мистический переполох обратился. Жаль, она курить не умеет. Можно было бы постоять у окна, красиво и грустно пуская дым тонкой струйкой на выдохе. И посмотреть в темноту печальными глазами. Как Анна Каренина, например. Хотя нет, при чем здесь Анна Каренина – она вообще опий курила, насколько ей помнится. Или не курила? Или просто так внутрь принимала, для успокоения раненой женской души? Ничего себе… Как же она не помнит уже ничего? Надо будет перечитать, обязательно перечитать…
В последнее время Соня мало читала. Не удавалось как-то. Времени не было. Все заботы одни – то переезд от Томочки сюда, в эту «нехорошую» покойной Анны Илларионовны квартиру, то сессия в вечернем институте, на которую, как обычно, с работы не отпустили, то еще суета какая-нибудь, жадно забирающая драгоценное «читабельное» время. Не любила она эту суету. Будь ее воля, так бы и сидела с книжкой в обнимку там, за шкафом, в их старой однокомнатной квартире. А Томочка, укладываясь спать, ворчала бы себе уютно, проклиная свою несчастную сестринскую судьбу, подсунувшую ей на руки после смерти матери двух сестренок-малолеток – ее, стало быть, Соню, да младшую, Вику… И еще, мол, она, Соня, как есть вся в мать пошла – сроду сама себе судьбы не устроит, а только и знает, что в книжку пялиться, и все-то на ней, бедной Томочке, в доме держится. А потом, зевнув и вздохнув устало, уже из-под одеяла, Томочка обязательно бы добавила: хорошо еще, что, мол, Вика свою судьбу довольно самостоятельно соблюла – выскочила замуж хоть и за придурка, но зато вполне обеспеченного…