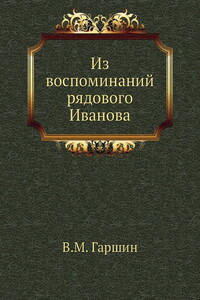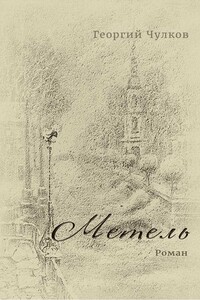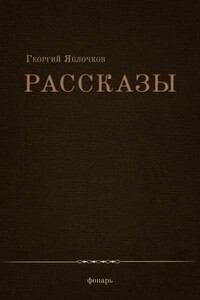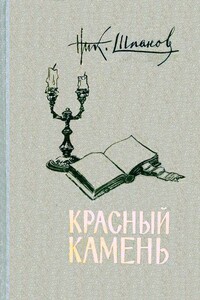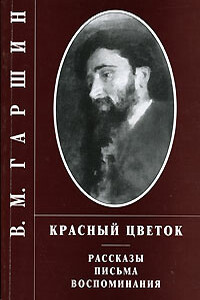Четвертого мая тысяча восемьсот семьдесят седьмого года я приехал в Кишинев и через полчаса узнал, что через город проходит 56-я пехотная дивизия. Так как я приехал с целью поступить в какой-нибудь полк и побывать на войне, то седьмого мая, в четыре часа утра, я уже стоял на улице в серых рядах, выстроившихся перед квартирой полковника 222-го Старобельского пехотного полка. На мне была серая шинель с красными погонами и синими петлицами, кепи с синим околышем; за спиною ранец, на поясе патронные сумки, в руках тяжелая крынковская винтовка.
Музыка грянула: от полковника выносили знамена. Раздалась команда; полк беззвучно сделал на караул. Потом поднялся ужасный крик: скомандовал полковник, за ним батальонные и ротные командиры и взводные унтер-офицеры. Следствием всего этого было запутанное и совершенно непонятное для меня движение серых шинелей, кончившееся тем, что полк вытянулся в длинную колонну и мерно зашагал под звуки полкового оркестра, гремевшего веселый марш. Шагал и я, стараясь попадать в ногу и идти наравне с соседом. Ранец тянул назад, тяжелые сумки — вперед, ружье соскакивало с плеча, воротник серой шинели тер шею; но, несмотря на все эти маленькие неприятности, музыка, стройное, тяжелое движение колонны, раннее свежее утро, вид щетины штыков, загорелых и суровых лиц настраивали душу твердо и спокойно.
У ворот домов, несмотря на раннее утро, толпился народ; из окон глядели полураздетые фигуры. Мы шли по длинной прямой улице, мимо базара, куда уже начали съезжаться молдаване на своих воловьих возах; улица поднималась в гору и упиралась в городское кладбище. Утро было пасмурное и холодное, накрапывал дождик; деревья кладбища виднелись в тумане; из-за мокрых ворот и стены выглядывали верхушки памятников. Мы обходили кладбище, оставляя его вправо. И казалось мне, что оно смотрит на нас сквозь туман в недоумении. «Зачем идти вам, тысячам, за тысячи верст умирать на чужих полях, когда можно умереть и здесь, умереть покойно и лечь под моими деревянными крестами и каменными плитами? Останьтесь!»
Но мы не остались. Нас влекла неведомая тайная сила: нет силы большей в человеческой жизни. Каждый отдельно ушел бы домой, но вся масса шла, повинуясь не дисциплине, не сознанию правоты дела, не чувству ненависти к неизвестному врагу, не страху наказания, а тому неведомому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню — самую крупную причину всевозможных людских бед и страданий.
За кладбищем открылась широкая и глубокая долина, уходившая из глаз в туман. Дождь пошел сильнее; кое-где, далеко-далеко, тучи, раздаваясь, пропускали солнечный луч; тогда косые и прямые полосы дождя сверкали серебром. По зеленым склонам долины ползли туманы; сквозь них можно было различить длинные, вытянувшиеся колонны войск, шедших впереди нас. Изредка блестели кое-где штыки; орудие, попав в солнечный свет, горело несколько времени яркою звездочкою и меркло. Иногда тучи сдвигались: становилось темнее; дождь шел чаще. Через час после выступления я почувствовал, как струйка холодной воды побежала у меня по спине.
Первый переход был невелик: от Кишинева до деревни Гаурени всего восемнадцать верст. Однако, с непривычки нести на себе фунтов двадцать пять — тридцать груза, я, добравшись до отведенной нам хаты, сначала даже сесть не мог: прислонился ранцем к стене да так и стоял минут десять в полной амуниции и с ружьем в руках. Один из солдат, идя на кухню за обедом, сжалившись надо мной, взял и мой котелок; но когда он пришел, то застал меня спящим глубоким сном. Я проснулся только в четыре часа утра от нестерпимо резких звуков рожка, игравшего генерал-марш, и через пять минут снова шагал по грязной глинистой дороге, под мелко сыпавшим, точно сквозь сито, дождиком. Передо мною двигалась чья-то серая спина с навьюченным на нее бурым телячьим ранцем, побрякивавшим железным котелком и ружьем на плече; с боков и сзади тоже шли такие же серые фигуры. Первые дни я не мог отличить их друг от друга. 222-й пехотный полк, куда я попал, состоял большею частью из вятских (вячких, как они говорили) и костромских мужиков. Всё широкие, скуластые лица, побуревшие от холода; серые небольшие глаза, белокурые, бесцветные волосы и бороды. Хотя я и помнил несколько фамилий, но кому они принадлежат — не знал. Через две недели я не мог понять, как я мог смешивать двух своих соседей: одного, шедшего рядом со мною, и другого, шедшего рядом с обладателем серой спины, бывшей постоянно перед моими глазами. Я безразлично называл их Федоровым и Житковым и постоянно ошибался, а между тем они были совершенно не похожи друг на друга.
Федоров, ефрейтор, был молодой человек лет двадцати двух, среднего роста, стройно, даже изящно сложенный. У него было правильное, будто выточенное лицо, с очень красиво очерченными носом, губами и подбородком, покрытым белокурой курчавой бородкой, и с веселыми голубыми глазами. Когда кричали: «песенники, вперед!», он бывал запевалой нашей роты и чисто выводил грудным тенором, на высоких нотах прибегая к высочайшему фальцету: