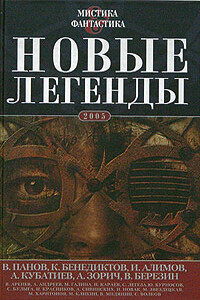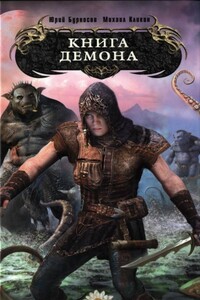Ночью была буря, и старая гнилая липа, не выдержав натиска стихии, переломилась пополам и рухнула, накрыв покосившийся сруб колодца.
Досталось и другим деревьями – растущие вокруг пруда кряжистые вётлы разбросали по мелкой гнилой воде ободранные ветки, одичавшие яблони растеряли невызревшие еще яблоки, а растущая на пригорке сосна лишилась огромной лапы и сделалась жалкой, будто зверь-инвалид.
Но вот липа!..
Баба Маша вздохнула.
Липу эту посадил её старший брат Фёдор в тот день, когда уходил на фронт.
«Я тут у дедушки одного был, – негромко сообщил он, отведя сестренку в сторону. – Он мне всё и посоветовал. Я, значит, этой липе в корни свои волосы положил, и рубаху старую. Всё сделал, как дед велел. Теперь если со мной что случится, то дерево вам и покажет.»
Не верила школьница Маша в подобные глупости, суевериями их называла, но вскоре пришлось ей мнение своё переменить. Девятого июля в грозу ударила в деревце странная, тонкая, будто веревка, молния, оставила на стволе выжженный след. А через два месяца вернулся домой скорченный, почерневший лицом Фёдор. Прихрамывая, подошел он к липе, тронул рукой изуродованный ствол, сказал тихо: «А дед-то не наврал».
И только Маша поняла, о чем это он.
Так и не оправилось после той грозы дерево. Росло, вроде бы, тянулось вверх, да ела его потихоньку чёрная нутряная гниль. Всю войну и еще двадцать лет после председательствовал в колхозе Фёдор, крепко тянул государственное хозяйство, никогда о болячках своих не вспоминал, не жаловался, только на липу посматривал, да на людях, посмеиваясь, жалел ее вслух.
Умер он как-то тихо, незаметно, – один в своей подслеповатой избёнке. И в день похорон, в августе месяце, липа вдруг сбросила всю листву и завернулась в невесть откуда взявшуюся густую серую паутину.
Через несколько лет она всё же оправилась, зазеленела кроной, и даже чёрный рубец немного затянулся. Может, потому, что Маша стала ей под корни закапывать свои волосы, а может по какой другой причине.
Уж не Иван Иванович ли тогда помог умирающему дереву?..
Качая головой, баба Маша обошла кругом накрытый липой колодец.
Что ж теперь делать? На ключ, что ли, за водой ходить? Далеко. Да и нечищеный он вот уж сколько лет. Затянулся, чай, грязью…
Подобрав оставленные на тропинке вёдра, баба Маша направилась к соседскому дому.
* * *
Утехово большой деревней не было никогда. В лучшие дни – до пожара – было здесь двенадцать дворов. Дети бегали учиться за шесть километров в Лазарцево: там помимо школы и сельмаг имелся, и клуб с библиотекой и бильярдом, и баня общественная.
Но вот надо же! Пришло время – сравнялись деревни: что в Утехове два дома осталось жилых, что в Лазарцеве. И будто отодвинулись они друг от друга, не шесть километров разделило их, а все шестьдесят. Прямая дорога заросла, брод через речку тиной затянулся, лес на прежние луга да на пашни выбрался. Раньше дети за час в один конец бегали. А старикам теперь чуть не весь день тащиться надо.
Вот и не ходит теперь никто из Утехова в Лазарцево. Надобности нет: магазин давно закрылся, баня сгорела, клуб на дрова разобрали. А весточку, коли захочется, можно и через Лёшку Иванцева передать, когда он из райцентра на своей «Ниве» прикатит, хлеб, чай, да сахар на продажу привезет – а заодно и проверит, не померли ли одинокие старухи, живы ли еще окруженные лесом деревни.
* * *
Соседка выглянула, стоило бабе Маше несильно стукнуть пальцем в оконное стекло.
– Видела, чего ночью-то было?
– А то как же! Боялась, что крышу сдует.
– Липу мою завалило. Прямо на колодец. Теперь не подойти.
– Ты погоди, я щас…
Створка окна стукнула, скрипнул шпингалет.
Баба Маша отвернулась, привалилась боком к бревенчатой стене. Прищурясь, из-под руки глянула на изувеченную сосну, горестно покачала головой.
Неспокойно ей было.
Ну как неспроста липа-то сломалась! Может, знак это?
Ох, не надо было волосы ей в корни подкапывать!..
Соседка вышла, кутаясь в серую шаль, опираясь на можжевеловую клюку:
– Пошли, поглядим, что ли, чего там за беда случилась. А я нынче из дома-то не выходила. Курей только выпустила со двора. Нездоровится мне что-то. Печку даже затопила – знобит.
– Так ведь, чай, не двадцать лет, – рассеяно ответила баба Маша.
Идти далеко не пришлось – колодец был рядом, за дровяным сараем, за гнилым остовом комбайна, за разросшейся сиренью.
– Вот, – сказала баба Маша, широко разводя руками. – Нам тут, Любаша, самим не управиться.
– Да-а, – протянула соседка, медленно обходя колодец и рухнувшую на него липу. – А, может, трактором её оттащить?
– Тогда совсем сруб развалится. Надо хотя бы сучья все поотрубать, но мы туда ведь и не подлезем… Не бабская это работа, Люба. Иван Иваныча надо звать.
– Ой, не знаю… – повела плечом баба Люба. – Не хочется мне его попусту тревожить.
– Опять ты заладила! Какое ж это попусту?! И так целое лето его не трогали! Дел-то, дел-то сколько уж накопилось: навоз надо выгрести, сено повалить, дров хоть сколько-нибудь припасти. Хватит, чай, нагулялся за лето. Осень на носу, картошку надо будет в подпол стаскивать. Или тоже всё сама собралась делать?
– Может и сама, – тихо сказала баба Люба. – Ты, Марья Петровна, не ругайся. Я ведь не просто так… Я ведь… Боюсь, не пойдет к нам больше Иван Иваныч.