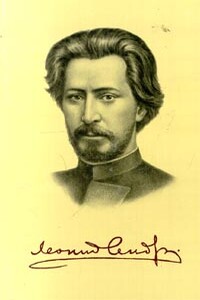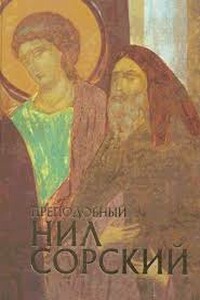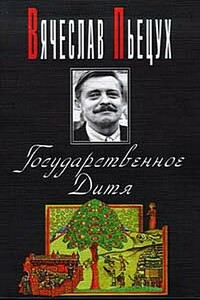Жили мы себе жили, перебиваясь с петельки на пуговку, и вот в самом начале 60-х годов прошлого столетия вдруг настала пора народных восторгов по поводу рая на земле (не на всей, конечно, а в пределах от Салехарда до Кушки и от Бреста до Колымы), который нам торжественно пообещал узкий синклит вождей, некогда выбившихся из разнорабочих и пастушков.
Что за рай, на каких основаниях нам предстояло в него ввалиться, как мышь в крупу, никто тогда толком не понимал, но вся штука была в том, что вожди сулили народу всеобщее и безразмерное счастье не на морковкино заговенье, а чуть ли не к будущим выходным. Получалось, что вроде бы не сегодня завтра машины заменят людей у рабочих мест, и освобожденный человек, отмеченный уже некоторыми признаками совершенства, получит взамен право на даровые увеселения, провизию и штаны.
Ну, выдающаяся чепуха, даром что в нее поверил и стар и млад, поскольку мы народ легкомысленный и, можно сказать, несколько не в себе. Во-первых, с машинами дело обстояло довольно туго, во-вторых, наш металлист, воспитанный на коммунальной кухне, имел обыкновение безобразничать в будни и праздники, да еще регулярно напивался по обе стороны проходной. Но главное, и у мусульман представление о рае было куда внятнее, чем у нас, социал-агностиков, (все-таки гурии — это вполне конкретно), и у христиан фигурировало ложе Авраамово, и буддисты уповали на мудрое небытие, а наши вожди придумали черт-те что: распределение якобы по потребностям вместо распределения якобы по труду. Наверное, они нас считали за дураков, что было отчасти и справедливо, или они сами на старости лет окончательно запутались и не ведали, что творят.
Как бы там ни было, народные восторги, вызванные праздничным ожиданием чуда, имели одно странное следствие — люди стали выбрасывать на помойку старые вещи, как то: штучную мебель, гарднеровскую посуду, лежалую одежду вплоть до придворных мундиров, шитых серебряной канителью, шандалы и подсвечники из фраже. Много лет спустя они рвали на себе волосы, потому что, продав какое-нибудь канапе эпохи императрицы Елизаветы, можно было купить себе самолет, но в 60-е годы об этом как-то не думалось, не гадалось, и народ с легким сердцем избавлялся от старины. Рассуждали так: уж если новая, сказочная жизнь стучится в дверь, то и вещи пускай будут новые, так или иначе отрицающие распределение по труду.
В эту пору из семейного обихода стали исчезать предметы, о существовании которых нынешнее поколение даже не подозревает, и сейчас уже никто не скажет, если не считать зажившееся старичье, что такое «подзор» у кровати или «бутоньерка» на лацкане пиджака. В домах у людей стало просторней, но как-то пустынно, однообразно и невыразительно, словно в зале ожидания где-нибудь у черта на рогах, а впрочем, новое веянье вполне отвечало духу того времени, когда богатейшая страна прозябала в поголовной бедности и вожди культивировали ту спасительную идею, что счастье не в деньгах и не в вещах, а в чем-то другом, воздушном, неосязаемом, даже несказуемом, но только не в деньгах и не в вещах. Кто бы мог подумать, что и тридцати лет не пройдет, как откроется простая истина: счастье как раз в вещах.
Отчего да почему — это особенный разговор. Нужно начать с того, что в отличие от плоти человеческой вещь нетленна, по крайней мере, она значительно долговечней своего создателя, и какой-нибудь хрупкий кузнецовский соусник способен пережить десять поколений отъявленных едоков. Потом: ежели человека закопать, то он уже ничего не расскажет, а вещь может поведать о разных разностях, хоть она тысячу лет пролежи в земле. Наконец, вещь нужно любить и лелеять уже потому, что она обеспечивает связь эпох, и никто не чувствует себя несчастным, заброшенным во времени и в пространстве, если сидит на стуле, который прапрадед в суматохе выкрал из барских хором, когда односельчане подпустили лиходею «красного петуха». Я, во всяком случае, хотя и живу бобылем, нисколько не чувствую себя потерянным, одиноким и отчасти по той причине, что в моем доме имеется ряд вещей, которые ведут свою историю, если не от царя Гороха, то уж точно от императрицы Елисавет.
Не думаю, чтобы мои покойные родители были дальновиднее прочих, а скорее поленивей да победней и поэтому сохранили в неприкосновенности дедовское наследство, состоящее в дряхлой мебели, кое-каких артефактах и разных знаменательных мелочах.
Например, у меня в кабинете стоит секретер Александровской эпохи, украшенный медным орнаментом, со множеством ящичков и с выдвижной столешницей, крытой зеленым сукном, за которой хоть читай, хоть пиши, хоть поверяй счета. Правду сказать, этот секретер мне за ненадобностью оставила моя бывшая жена, и поэтому он прямого фамильного значения не имеет, но прадед жены был почтовым чиновником десятого класса по тогдашней Табели о рангах и, видимо, в пору выкупных платежей[1] приобрел секретер у какого-нибудь продувшегося помещика, которые тогда кутили, как перед Судным днем
В ящичках секретера с левой стороны я храню счета, фотографии, вырезки из газет, художественные открытки, коллекцию почтовых марок в кляссерах размером с записную книжку и разные документы, как то: свидетельства о смерти обоих родителей, паспорт, военный билет, водительские права. Потайной же ящичек, так хитро устроенный, что его не отыщет самый искусный вор, служит у меня заместо копилки для мелочи, и когда ее набирается порядочно, я иду с холщовым мешочком пить пиво в заведение под названием «У Петровича», и официанты сразу разбегаются, как только завидят меня в дверях. Полагаю, что во время оно в этом ящичке прятали связки любовных писем, отнюдь не предназначенных для глаз ревнивой супруги, и какой-нибудь отставной корнет и мелкопоместный дворянин Модест Аполлонович Приходько-Скоропадский перечитывал их на старости лет при спермацетовых свечах и глотал внутреннюю слезу. Это было, если было, весьма давно, когда еще существовал эпистолярный жанр, то есть когда люди писали друг другу письма, и более того — хранили их, обвязанные голубой тесемкой, паче, чем расписки и векселя. Иисусе Христе! как с тех пор опростилась жизнь.