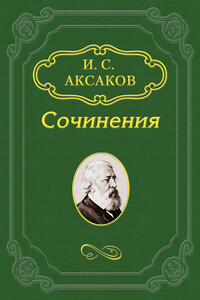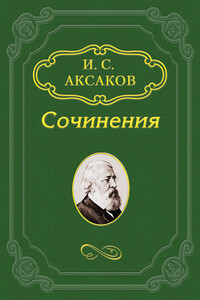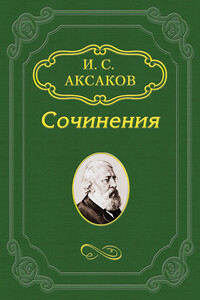В некоем царстве, в тридесятом государстве жил-был военный госпиталь, что говорится, процветал. Больных в приходе было очень много, и больные мерли исправно и быстро, но память об них не вдруг умирала, и еще долго после смерти они продолжали жить в расходных книгах аптекаря и эконома, – даже нередко, по предписанию доктора, переводились в разряд «слабосильных», то есть требующих для себя пищи более укрепительной – более ценной. Отчетность производилась в отличном порядке; в реестрах, ведомостях, ежедневных табличках и рапортичках, «порции» больным, кому слабые, кому крепкие, кому половинные, кому полные, расписывались с удивительною аккуратностью, лекарства назначались частехонько самые дорогие, и все свидетельствовало о том, что начальство не щадило денежных средств для «наивозможно лучшего» содержания больных. Госпитальный писарь красивым военно-писарским почерком выводил в списке имена: Ивана Петрова, Петра Иванова, Семена Иванова, Андрея Иванова, Гордея Иванова, Ивана Иванова и проч., и проч. – то есть бесконечное множество имен и отечеств нижних чинов, так что глаз начальства, не зацепляясь ни за какое прозвище, невольно скользил по однообразным именам и отечествам и останавливался только на цифре итога. Одним словом – все обстояло благополучно, как следует. Городок, в котором благоденствовал госпиталь, то есть госпитательные власти, начиная от больничных сторожей и фельдшеров, находился вообще в условиях самых счастливых: центральное управление было от него за несколько сот верст, о ревизии давно уже не было слышно, а начальствующие, которым госпиталь подчинялся непосредственно, были люди своего ремесла и ведомства, люди – свои. С своими же что за счеты! Отношения госпиталя к начальству были самые мирные, патриархальные, так сказать семейные, – вполне благонадежные, – и в силу-то этих отношений случилось так, что в госпиталь, устроенный на 400 кроватей, принято было однажды (и очень недавно) больных семьсот человек. Размещение было конечно тесное; но если больные и жаловались на это неудобство, так госпитальные власти и в особенности эконом – вовсе не жаловались.
Все шло прекрасно, как вдруг пронесся слух, что в край определен новый главный начальник, с которым нельзя было входить ни в какие сделки, но пред которым госпиталю следовало явиться исправным. Триста больных лишних против положенного по штату числа кроватей – беспорядок! Конечно, можно было бы сослаться, и даже с некоторым основанием, на эпидемию и другие случайные обстоятельства, внезапно усилившие прилив больных, но выговора все-таки нельзя было бы миновать, и выговора строгого как от нового начальника края, так и от своих домашних начальников: зачем дал себя госпиталь застать врасплох?! И в самом деле, где ни проезжал начальник, везде «порядок и благополучие» утешали его сердце, – следовательно, неисправность госпиталя тем еще резче бросилась бы в глаза начальника – и огорчила бы его сердце!.. Как тут быть? Сошлись доктора и все власти госпитальные, посоветовались, потолковали и решили: лишних 300 больных, выписав задним числом в исходящую книгу, немедленно отправить на подводах в другой госпиталь, отстоявший в 400 верстах от первого… При этом власти ласкали себя надеждою, что ревизор успеет побывать и в другом госпитале и остаться им довольным – прежде чем странствующие больные доползут на подводах до места своего назначения. Время года для отправки было не совсем удобно, да и переезд был слишком долог, – но что до этого? Ведь ревизор уже близко, так раздумывать тут уже некогда. Кого же однако отправить? Опять собрались доктора, и вот один из них предложил – отправить тех больных, которые потруднее. «И резонно», отвечали хором все остальные, – резонно: потому, во-первых, что вид труднобольных всегда тяжело действует на душу непривычного посетителя, особенно же начальника, – расстраивает нервы, производит неприятное впечатление, которое может быть невыгодно и для госпитальных властей, и даже для всего ведомства; между тем желательно, да уж и по обычаю службы требуется, чтоб больные смотрели бодро и весело на ревизующее начальство; во-вторых, потому, что с труднобольными возни и хлопот несравненно больше, чем с легкобольными, а в-третьих, потому, что им ведь все равно придется умереть скоро: так неделью раньше, неделью позже, на койке или на подводе, не все ли это одинаково? Резонно. Решено и сделано; триста трудных больных отправлены на подводах, в сквернейшую погоду, верст за 400, и, как верно предугадали доктора, – большею частью не дошли до места назначения и перемерли дорогою на подводах. Начальник – благонамереннейший человек в мире, благонамереннейший, но неопытный в хитростях госпитального управления – остался госпиталем и властями отменно доволен, – и удовольствие было обоюдное. Мы слышали, что потом чей-то донос раскрыл начальнику всю истину, вследствие чего наряжено было строгое следствие, коего последствием был только выговор госпитальному начальству.
Рассказанное нами не вымысел, а сущая правда. Мы ошиблись, может быть, немного в подробностях, в числе верст, в числе больных, но в основе своей факт верен. И хотя это случилось не у нас, конечно, а в тридесятом государстве, но по аналогии с тем, что бывало, а может быть бывает еще и теперь у нас, на Руси, – едва ли кто станет отрицать возможность этого факта. Да, кто из читателей, положа руку на сердце, решится утверждать, что подобное дело несбыточно, что оно есть исключительный