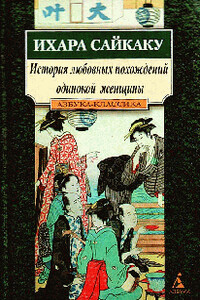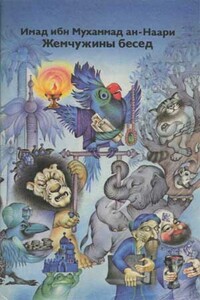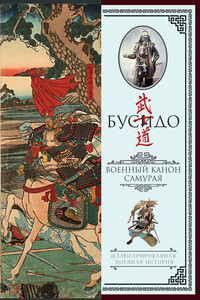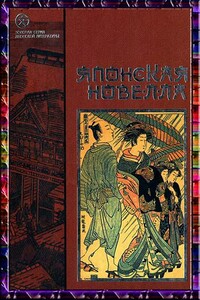«Красавица — это меч, подрубающий жизнь», — говорили еще мудрецы древности. Осыпаются цветы сердца, и к вечеру остаются только сухие ветки. Таков закон жизни, и никто не избегнет его, но порой налетит буря не вовремя и развеет лепестки на утренней заре. Какое безрассудство — погибнуть ранней смертью в пучине любви, но никогда, видно, не переведутся на свете такие безумцы!
В седьмой день первого месяца случилось мне пойти в Сагу, к западу от столицы [5]. Когда я переправлялся через Умэдзу — реку сливовых цветов, губы которой точно шептали: «Вот она — весна!» — встретился я с двумя юношами. Один из них был красив собой, щегольски одет по моде, но изнурен и смертельно бледен. Казалось, истерзанный любовной страстью, он клонился к скорому концу, проча старика отца в свои наследники.
Юноша говорил:
— Мое единственное желание на этом свете, где я ни в чем не знал недостатка, — чтобы влага моей любви никогда не иссякала, как полноводное течение этой реки.
Спутник его в изумлении воскликнул:
— А я желал бы найти страну, где не было бы женщин! Туда хотел бы я укрыться, там в тишине и покое продлить свои дни и лишь издали следить за треволнениями нашего времени.
Мысли их о жизни и смерти были так далеки друг от друга, как долгая жизнь непохожа на короткую.
Юноши спешили вперед, точно гнались за несбыточными снами, и не помня себя вели яростный спор, как в бреду. Дорога, не разветвляясь, вилась вдоль берега реки. Безжалостно топча молодые побеги диких трав, они шли все дальше в глубь гор, туда, где не было и следа людских селений.
Охваченный любопытством, я последовал за ними.
Посреди сосновой рощи виднелась редкая изгородь из сухих веток. Дверца, сплетенная из побегов бамбука, скрывала вход в природную пещеру, такой тесный, что, казалось, и собака не пролезет. Кровля с одним только пологим скатом, а на ней стебли травы желанья и сухие листья плюща — все, что осталось от давно минувшей осени. Под сенью ивы журчал ручеек, выбегая из бамбуковой трубы. Родниковая вода была чиста и прозрачна, невольно думалось, что и хозяин этой кельи — чистый сердцем святой! Я заглянул в окно, и кого же я увидел?
Женщину, согнувшуюся в три погибели под бременем лет. Волосы убелены инеем, глаза тусклы, как бледный свет закатной луны. На старом косодэ [6] небесного цвета рассыпаны махровые хризантемы. Пояс с модным рисунком повязан спереди изящным узлом. Даже сейчас, в глубокой старости, она была не по летам разряжена, и все же не казалась смешной и противной.
Над входом, который вел, видимо, в ее опочивальню, висела доска с шуточной надписью: «Обитель сладострастья».
Еще чувствовался аромат курившегося когда-то благовония, быть может прославленного хацунэ. Мое сердце готово было впорхнуть к ней в окно.
Тем временем юноши вошли в дом, не спрашивая дозволения, с видом привычных посетителей.
Старуха улыбнулась:
— И сегодня тоже пришли меня навестить! Сколько в мире удовольствий манит к себе, зачем же ветер льнет к сухому дереву? Уши мои туго слышат, язык плохо повинуется. Уже семь лет, как я скрываюсь в уединении, отказавшись от суетного мира. Когда раскрываются цветы сливы, я знаю, что пришла весна. Когда зеленеющие горы меняют свой цвет под покровом белого снега, это для меня знак, что наступила зима. Давно уже я не вижу людей. Зачем же вы приходите ко мне?
— Друг мой гоним страстью, а я погружен в свои думы, и оттого мы оба не могли до сих пор постичь все тайны любви. Сведущие люди посоветовали нам прийти сюда. Расскажите, прошу вас, о своей прошлой жизни так, чтобы мы все увидели как бы своими глазами.
Юноша налил немного хрустально чистого вина в драгоценную золотую чарку и стал потчевать старуху, не слушая ее отговорок.
Неприметно старуха опьянела, в голове у нее помутилось, и она запела песню о любви, перебирая струны, совсем как в давно минувшие времена. И, увлекшись, она стала рассказывать, словно во сне, о своих былых похождениях и обо всем, что случилось на ее веку.