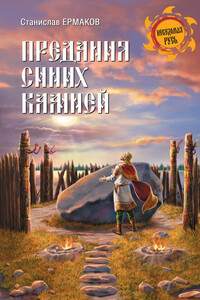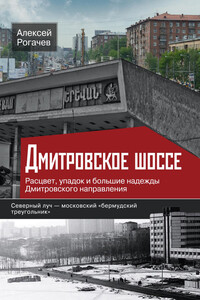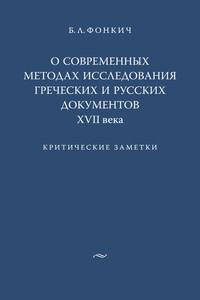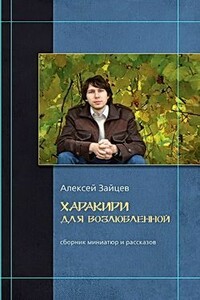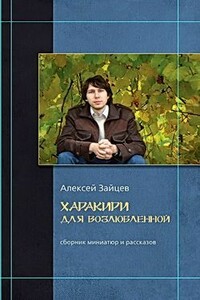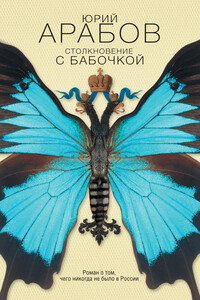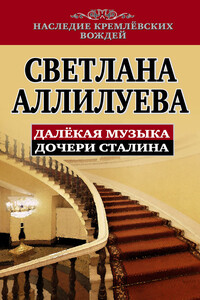Школьное просвещение существовало еще в Древней Руси, но освобожденная от схоластики гражданская школа, назначение которой - подготовлять и воспитывать для практической деятельности, возникла только в начале XVIII века. Петровские преобразования создали новую школу реального направления, где преподавались математика, механика, «инженерство» и даже «докторство». Молодому человеку дворянской среды вменялось в обязанность овладеть наукой[1] и вступать в жизнь не только господином, но и «работником». На протяжении XVIII века характер и направление школы несколько раз менялись в соответствии с теми задачами, которые ставило перед собой господствующее сословие. Петровская школа, с ее утилитарными целями, с ориентацией на обучение техническим наукам и овладение ремеслом, предполагала, что окончивший должен активно вторгнуться в созидательную жизнь страны. Школа была неприемлема для сословия, которое после смерти Петра I на протяжении ряда десятилетий низвергало и возводило монархов на престол по собственному произволу, пока не нашло в лице Екатерины II искусного защитника своих сословных интересов. Дворянство торжествовало победу. Оно ограничивало свои обязанности перед государством, то есть оставалось военным сословием, что давало ему полную независимость, и поспешно закрепляло за собою «права» и привилегии.
Теоретики дворянской педагогической мысли понимали, что для закрепления сословной победы мало указа - юридического установления. Необходимо создать новую породу людей, которая смогла бы удержать в поколениях достигнутое. Мысль эту особенно ярко выразил в своих работах И.И. Бецкой.[2] Естественно, что дворянская школа ставила перед собою иные задачи, нежели школа петровского времени. Из фонвизинского Митрофанушки, которого в прежнее время дубиной загоняли в науку, теперь надлежало подготовить не механика-инженера-мореходца, - этот черный труд падал на иные сословия, - а воина-гражданина, способного к государственной деятельности. Школа должна была не столько учить, сколько воспитывать. Нельзя сказать, чтобы эта система пренебрегала образованием, но она не отягощала им воспитанника; он больше учился «зрением и слухом»[3], чем затверживанием уроков, воспитанникам «должно только в исполнение приводить то, что выучат, а не других обучать»[4]. Этим заранее исключалась возможность, что из числа воспитанников может в будущем выйти учёный, педагог, воспитатель, труд этот приходился на долю других сословий. Школа должна была воспитать в ученике чувство собственного, вернее, дворянского достоинства; разумеется, телесное наказание было изгнано, надлежало внушить ученику чувство кастового превосходства, воспитать независимость и свободу взглядов. Школа должна была дать «сносное» военное образование и развить физические способности воспитанника, привить ему чувство изящного, давая широкое, но отнюдь не глубокое гуманитарное образование. «Должно наипаче из сего корпуса произвести и воинов и граждан, искусных и в политической экономии и в законах своего отечества так, чтоб генерал, одержав победу, мог решить судное дело в Сенате, распоряжать течение доходов, исправлять земледелие, исполнять должность генерала-полицеймейстера»[5].
Сама идея такой школы даже в педагогическом смысле ложна. Труд ученика над книгой, упорство в усвоении материала недооценивается; педагог словно боится переутомить учащегося. Вероятно, при составлении проекта устава кадетского корпуса не последнюю роль для Бецкого сыграли воспоминания о петровских временах, когда молодой человек, предварительно обученный в цифирной школе или в школе местного архиерейского дома, должен был, «не жалея живота своего», постигать математику и механику. В проекте Бецкого физическому «образованию» отдается предпочтение перед интеллектуальным, и это естественно вытекает из всей его концепции. Для него дворянин прежде всего рыцарь, воин, а вовсе не учёный. Интеллектуальный труд для дворянина - не экономическая необходимость, а эстетическое наслаждение. Отсюда и ориентация на гуманитарные дисциплины, искусства: литературу, ваяние, музыку. Автор педагогического проекта представлял трудности его осуществления и заявлял, что если, по несчастью, не найдутся дядьки и учителя, искусные в науках и способные во всем служить примером для юношества, «тщетны будут все предписания и все старания о произведении благонравия и успехов»[6]. Таких учителей, действительно, не нашлось и не могло найтись, появление педагогов-воспитателей из числа воспитанников дворянской школы принципиально исключалось. Дворянская школа должна была «обслуживаться» учителями иносословного происхождения; последние должны были прививать молодым людям чувство дворянской гордости, которой сами они никак не могли обладать, или развивать свободу и независимость взглядов.
Как видим, программа Бецкого была противоречива и несостоятельна по своей сущности. Дворянская среда готовила универсального человека - командира любой области гражданской жизни. Горький опыт убедил, что нельзя с одинаковой «подготовкой» делать «карьер» на паркете и на поле сражения. Военное сословие вынуждено было военизировать школу: создавать кадетские и морские корпуса, готовить военных специалистов, а не «всесторонне» образованных людей, носящих военный мундир. С созданием такой военной школы рушилась самая идея школы Бецкого, с гуманным учителем, с легким, почти свободным обучением при отсутствии всякого принуждения, с наказанием, не переходящим грани внушения, укора, обращенного к чувству воспитанника. Военная школа имела тот же распорядок жизни, что и казарма или военный корабль: подъём, маршировка, ученье. Здесь учитель - командир, офицер старой службы, способный сообщить кадетам специальные знания, ученики - солдаты, беспрекословно выполняющие приказания своего начальника; неприготовление урока влечет за собою наказание: наряд, карцер, розги. Разумеется, кадет не мог учиться «слухом и зрением», от будущего офицера морской или артиллерийской службы требовались точные знания. Такая школа всецело отвечала задачам дворянского государства, но в ней почти ничего не осталось от гуманно-мечтательной программы Бецкого, разве что непременное знание французского языка и бальных танцев.