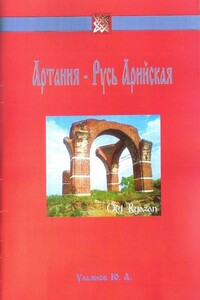Предисловие
Не трогаясь с места
Солнце осыпало океан мириадами сверкающих бриллиантов, пока я вел машину прочь от побережья, в сторону пустыни. Леонард Ко-эн, мой герой с самого детства, нежно прощался с Марианной в динамиках стереосистемы, а я уже углубился в тугой клубок развязок, что душат в своих кольцах центр Лос-Анджелеса, все эти небоскребы и пробки, а затем снова вырвался в относительный простор и тишину.
Свернув с автострады, я через серию развилок добрался до узкого, совершенно пустого шоссе, которое, петляя, вело меня все выше и выше к синеющему впереди хребту Сан-Габриель. Очень скоро вся суета осталась далеко внизу. Воздух был разреженным и чистым, а Лос-Анджелес превратился в схематический силуэт из нескольких горных пиков-небоскребов на горизонте.
Недалеко от перевала (щиты, стоящие меж сосен, строго запрещали бросаться снежками) я увидел на склоне слева от дороги пригоршню хижин – буддистский центр Маунт-Болди – и зарулил на ухабистую парковку.
Здесь меня уже поджидал мужчина лет шестидесяти, сутулый и с наголо обритым черепом. Когда я вышел из машины, он отвесил мне низкий церемонный поклон и мягко, но настойчиво отобрал у меня сумку, чтобы самому отнести ее в хижину, где мне предстояло провести несколько дней. Пронизывающий ветер трепал полы его черной поношенной рясы.
Когда мы вошли в дом, мой хозяин отправился на кухню и отрезал несколько ломтей свежеиспеченного хлеба, чтобы я мог слегка подкрепиться после, как он выразился, “долгого, трудного пути”. Затем монах поставил на огонь чайник. И вдруг, хотя мы никогда прежде не встречались, предложил подыскать для меня жену, если, конечно, я в этом нуждаюсь (я не нуждался, потому что и так уже был почти женат).
В этом фейерверке сменяющих друг друга неожиданных впечатлений я все как-то не мог по-настоящему осознать, что этот небольшой человек в очках в проволочной оправе и в вязаном колпачке, делавшем его похожим на раввина, – тот самый Леонард Коэн, облаченный в “Армани” идол гламурного шика, неутомимый путешественник, чьи романтические песни и стихи вот уже тридцать лет разбивают сердца поклонников по всему миру.
Коэн поселился в этой старомодной обители, чтобы практиковать полную неподвижность, не-делание. Он работал над этой частью своей жизни, как над произведением искусства, так же дисциплинированно и усердно, как и над другими своими произведениями, более известными публике. Большую часть тех семи дней и ночей, что мы – я и еще примерно двадцать человек, молодых людей, едва разменявших третий десяток, то есть не старше дочери Коэна, – провели в обители, Джикан (монашеское имя Коэна означает “время” по-японски) просидел, не меняя позы, в пустом зале для медитаций.
В оставшееся от медитации время он занимался всякой работой по хозяйству: мыл посуду на монастырской кухне или, что бывало чаще, ухаживал за своим учителем – 88-летним настоятелем Джошу Сасаки, вместе с которым Коэн практикует не-делание вот уже больше сорока лет.
Однажды в конце декабря, поздно вечером – точнее, в четыре часа утра, – мой хозяин отвлекся от медитации (в конце концов, я специально приехал, чтобы написать репортаж о его безмолвном, практически невидимом существовании) и зашел ко мне в хижину, чтобы рассказать, чем он здесь занимается. Неделание, увлеченно говорил он, было “самым глубоким развлечением”, которое он только смог найти в жизни: “Это поистине насыщенное, чувственное, восхитительное развлечение. Настоящий пир – вот что это такое”.
Я всматривался в его лицо, подозревая, что он, должно быть, разыгрывает меня – Коэн славится своим черным юмором и едкой иронией, – но в конце концов отбросил сомнения: он явно говорил совершенно искренне.
“А чем еще я мог бы заняться? – продолжал Коэн. – Жениться на еще одной молодой женщине и создать еще одну семью?” Весь его вид показывал, что это совершенно не то, что нужно.
“Искать все новые наркотики, покупать все более дорогие вина? Ну, не знаю… На мой взгляд, то, что я здесь делаю, – это самый щедрый и эффективный ответ на пустоту моего собственного существования”.
Возвышенно и ни малейших следов жалости к себе – сразу узнается Коэн; живя в практически полном безмолвии, он ничуть не утратил дара говорить афоризмами. И сегодня его слова звучали особенно веско, потому что их произносил человек, который, по общему мнению публики, перепробовал все удовольствия, какие только могут предложить секс, наркотики и рок-н-ролл.
Жизнь в этом безмолвном уединенном месте не имеет ничего общего с такими понятиями, как “благочестие” или “чистота”, объяснял Ко-эн. Он не стремился “возвыситься над мирской суетой” или стать адептом какой-нибудь уютной религии, у которой всегда наготове воскресная школа. Просто дело в том, что для него безмолвная медитация оказалась самым действенным способом справиться со смятением и страхом, которые так долго стояли у его изголовья. Неподвижно сидя рядом со своим престарелым японским другом, потягивая “курву-азье” глубокой ночью под стрекотание сверчков, он чувствовал, что почти счастлив – и это тот род счастья, который неподвластен внешним обстоятельствам.