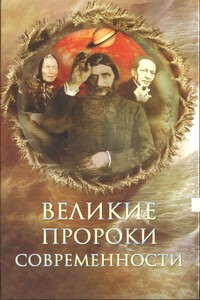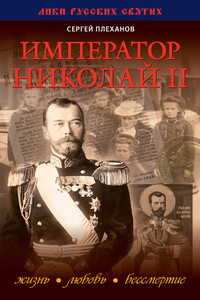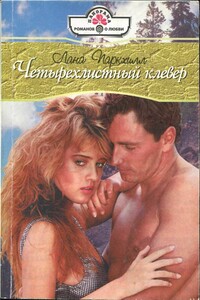Максим Александрович Гуреев
Иосиф Бродский. Жить между двумя островами
Я хочу, чтобы вы отметили различие
между устрашающим и трагическим.
Иосиф Бродский
© М.А. Гуреев, 2017
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2017
* * *Коммос
В древнегреческой трагедии скорбный плач, который играет роль кульминации и одновременно финального обобщения.
– Мы очень сожалеем о случившемся, но просим вас сконцентрироваться и подробно рассказать о том, что произошло в ночь с 27 на 28 января 1996 года.
– Мне очень трудно сейчас говорить об этом.
– Мы приносим вам свои искренние соболезнования, но нам необходимо соблюсти процедуру и по возможности восстановить ход всех событий этой печальной ночи.
– Хорошо, я постараюсь, но мне очень тяжело, я могу ошибаться.
– Ничего страшного, мы слушаем вас.
– В субботу вечером он собирал рукописи и книги, он готовился к началу семестра.
– Почему господин Бродский этим занимался именно в субботу вечером, ведь занятия начинались только в понедельник, и впереди было еще воскресенье?
– Ну что вы! Он был очень щепетилен в этих вопросах и всегда готовился к занятиям заблаговременно.
– Понятно. Пожалуйста продолжайте.
– Потом, когда все было собрано, он сказал, что ему нужно еще поработать. Он пожелал мне спокойной ночи и поднялся к себе в кабинет.
– В поведении господина Бродского было что-то необычное, как вам показалось?
– Нет, пожалуй, все было как всегда. Хотя, конечно, он выглядел усталым, очень усталым…
– Почему?
– В последнее время он плохо себя чувствовал. Он мне не говорил, конечно, но я видела это.
– Вы говорите о его душевном состоянии или физическом?
– Я говорю о его больном сердце…
– Что было потом?
– А потом я обнаружила его только утром, мне невыносимо тяжело об этом вспоминать…
– Вы слышали ночью какой-то шум?
– Нет.
– Нет – вы его не слышали, или этого шума не было?
– Я не слышала, я спала.
– Мы понимаем, что вам трудно, но просим вас подробно рассказать о том, что вы увидели, когда утром вошли в кабинет господина Бродского. Это очень важно.
– Иосиф лежал на полу. Он был полностью одет.
– Значит, он не ложился спать, не собирался ложиться?
– Получается, что так.
– Скажите, как он лежал: лицом вниз или вверх?
– Не могу точно сказать, кажется, лицом вверх, а его очки лежали на столе рядом с книгой.
– Что это была за книга?
– Греческие эпиграммы.
– Прибывший на место происшествия утром 28 января наряд полиции показал, что тело господина Бродского лежало лицом вниз, а его очки разбились. Как бы вы это могли объяснить?
– Не знаю…
– Вы переворачивали тело до приезда полиции?
– Нет… я не помню… это ужасно…
– Мы сочувствуем вам, но еще один очень важный вопрос – ночью 27 января господин Бродский совершал телефонные звонки кому-либо?
– Нет, не совершал.
– А мы располагаем информацией, что господин Бродский звонил господину Барышникову. Что вы знаете об это звонке?
– Ничего не знаю! Оставьте меня в покое! Я сказала вам все, что смогла вспомнить! Мне очень тяжело сейчас, вы это можете понять?
– Конечно, мэм, конечно, можем. Но мы всего лишь делаем свою работу.
1 февраля 1996 года в Епископальной приходской церкви Благодати в Бруклине прошло отпевание Иосифа Бродского. На следующий день гроб с телом покойного был временно помещен в склепе, расположенном на кладбище при храме Святой Троицы, что на берегу Гудзона, где он находился до июня 1997 года.
21 июня 1997 года тело поэта было перезахоронено на протестантской части кладбища Сан-Микеле, расположенного на острове имени Святого Михаила Архангела в Венецианской лагуне.
На деревянном кресте было написано – Joseph Brodsky.
Впоследствии крест был заменен каменным памятником в античном стиле, изображение креста на котором предусмотрено не было.
Joseph Brodsky.
Stockholm.
1987.
Nobel lecture:
«Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко – и в частности от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, – оказаться внезапно на этой трибуне – большая неловкость и испытание. Ощущение это усугубляется не столько мыслью о тех, кто стоял здесь до меня, сколько памятью о тех, кого эта честь миновала, кто не смог обратиться, что называется, “урби эт орби” с этой трибуны и чье общее молчание как бы ищет и не находит себе в вас выхода.
Единственное, что может примирить вас с подобным положением, это то простое соображение, что – по причинам прежде всего стилистическим – писатель не может говорить за писателя, особенно – поэт за поэта; что, окажись на этой трибуне Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Роберт Фрост, Анна Ахматова, Уинстон Оден, они невольно бы говорили за самих себя, и, возможно, тоже испытывали бы некоторую неловкость. Эти тени смущают меня постоянно, смущают они меня и сегодня. Во всяком случае они не поощряют меня к красноречию. В лучшие свои минуты я кажусь себе как бы их суммой – но всегда меньшей, чем любая из них, в отдельности. Ибо быть лучше их на бумаге невозможно; невозможно быть лучше их и в жизни, и это именно их жизни, сколь бы трагичны и горьки они не были, заставляют меня часто – видимо, чаще, чем следовало бы – сожалеть о движении времени. Если тот свет существует – а отказать им в возможности вечной жизни я не более в состоянии, чем забыть об их существовании в этой – если тот свет существует, то они, надеюсь, простят мне и качество того, что я собираюсь изложить: в конце концов, не поведением на трибуне достоинство нашей профессии мерится…».