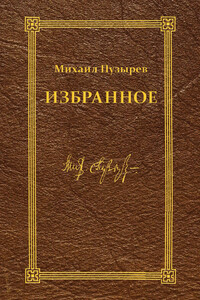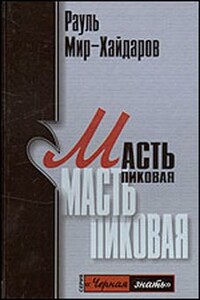Еще не было девяти, а колония давно обезлюдела — летом людей вывозили на объект почти с рассветом. Только у лазарета, дожидаясь врача, нерешительно мялись два парня, не знакомых Гимаеву, наверное, из последнего пополнения. В зоне, вообще-то, все знакомы: и конвойные, и заключенные знают друг друга в лицо.
Увидев Гимаева, парни на миг приободрились и приветливо помахали руками, но Максуд никак не прореагировал на этот дружеский жест, с ними прощаться не хотелось. Опытным глазом он определил сразу: с этими двумя мучиться в бригаде и врачам — хронические «лазаретчики», готовые на любые анализы, обследования и даже операцию, готовые угробить свое здоровье — такие и на воле не очень-то перерабатывают.
— Максуд, счастливо! — окликнул Гимаева с ближней сторожевой вышки сержант. Они были в колонии старожилами, Максуд даже с большим стажем: Вазгену оставалось служить до демобилизации и возвращения в свою Армению еще полтора месяца. Инженер ответил караульному улыбкой и помахал рукой.
В колонии редко кто остается без клички, была она и у Гимаева — Инженер, но он и в самом деле был инженером. Инженер был в колонии человек известный, и у конвойных, ребят моложе его, пользовался симпатией.
К комендатуре он подошел, как и рассчитал в бессонную ночь, без пяти девять. Законный час освобождения, высчитанный до последних минут, откладывать он не позволит никому: не зря же существует традиция — освобождать с утра. До заветной двери оставалось несколько метров, но он сбавил шаг. «Мне не нужно ни щедрости, ни милости»,— подумал он беззлобно и шагнул к двери только тогда, когда репродуктор во дворе объявил: московское время семь утра, что по-местному равнялось девяти, а для Гимаева это еще и означало, что отбыл он свои три года от звонка до звонка.
— Здравствуйте,— сказал он торопливо женщине за конторкой.
— Доброе утро, Гимаев. Ваши документы готовы, пожалуйста,— она протянула ему амбарную книгу, где он трижды проставил жирную закорючку: за документы, за деньги, за вещи, три года пылившиеся в подвале каптерки.
Как ни настаивала женщина, деньги пересчитывать он не стал, хотя сумма и была значительной, мало кто, выходя на волю, расписывался за четырехзначную цифру.
Гимаев небрежно сунул деньги в боковой карман потертой спортивной сумки. Жест этот не прошел мимо взгляда дежурной, и хотя она сделала строгое лицо, но это было скорее внешнее,— по душе ей были именно такие люди: ведь так обращаются с деньгами те, кто действительно не придает им чрезмерного значения.
— В подобных случаях я обязана сказать напутственное слово, но сегодня я в затруднении,— она развела руками.— Я знакома с вашим делом, и мне нечего сказать вам, разве что от всей души пожелать счастья и удачи. Надеюсь, уж здесь-то вы узнали цену этим словам. Вчера, подписывая бумаги, начальник посетовал, что Инженера нам будет не хватать…
— Нет уж, с меня довольно,— усмехнулся Максуд и подхватил с пола свою тощую сумку.— Прощайте, не поминайте лихом…
— Не таите и на нас зла,— услышал он уже в коридоре брошенные ему вслед неофициальные слова.
Он торопливо, почти бегом, одолел длинные безоконные коридоры комендатуры и оказался у проходной — часы показывали пять минут десятого.
Молоденький часовой из новеньких, как показалось Гимаеву, слишком долго и пристально осматривал только что выданные документы, а затем с ленцой, молча отпустил щеколду вертушки.
«Сопляк!» — зло ругнулся про себя Гимаев и тут же забыл его прыщавое лицо.
Он сделал шаг за ворота и вдруг остановился, словно задохнулся: казалось, там, в нескольких шагах за спиной, то же солнце, тот же воздух, та же выжженная, скудная казахстанская земля, но здесь была земля свободных людей, здесь был воздух воли! Ох, каким сладким, неземным показался этот первый глоток! Гимаеву на миг даже сделалось нехорошо. Он не считал себя сентиментальным и, хотя слышал, что подобное случается со многими, никогда не предполагал за собой такой слабости. Наверное, по-настоящему свободу может оценить только человек, терявший ее. Но миг слабости был столь короток, что караульный, с любопытством наблюдавший за Инженером, кажется, даже не заметил, как у него сбился шаг. Солдат ожидал, что освобожденный оглянется хотя бы раз, но Гимаев, так и не обернувшись, вскоре исчез за углом.
Первый день, по крайней мере, первые часы у него были рассчитаны по минутам, и он знал, как проведет время до самолета, которым собирался улететь. Удивительно, порою непостижимо, как досконально в колонии знают жизнь города, на улицы которого заключенные никогда не ступали, потому что и на работу, и обратно их возили в крытых машинах.
Городок был невелик, но рос, как говорится, не по дням, а по часам, в этом чувствовался неизвестный Гимаеву резон. Строился он умно, без бараков, без времянок, без суеты, по индивидуальному проекту. Кварталы аккуратных, в два этажа коттеджей из светло-желтого привозного кирпича для научной элиты, еще разбросанной по разным городам страны и, возможно, не подозревающей о своем скором переезде на работу сюда, чередовались с массивами уже редких ныне четырехэтажных домов. Городу еще строиться и строиться, но все парки, скверы, сады и рощи были уже разбиты, и за ними в городке существовал особый надзор. В колонии нашелся человек редкой профессии — специалист по парковой архитектуре, так он трижды на неделе с самим председателем горисполкома объезжал молодые посадки. Горисполком желал заполучить редкого и толкового специалиста во что бы то ни стало: архитектор только ночевал в колонии; поговаривали даже, будто горисполком и семью архитектора выписал, предоставив ей квартиру в центре города, но за достоверность этих слухов Гимаев поручиться не мог.