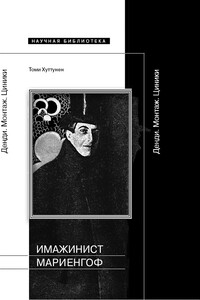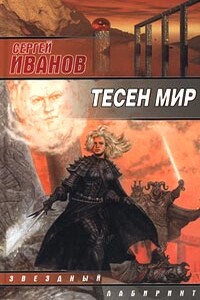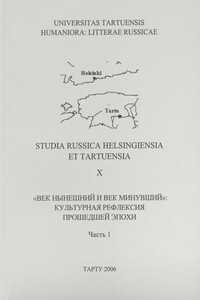Настоящая книга посвящена творчеству Анатолия Борисовича Мариенгофа (1897–1962) и принципам имажинистского текста, а также тому, как он создавал свой роман об имажинистах. Речь пойдет не столько об имажинизме вообще или самом писателе, сколько именно о его имажинизме, потому что в таком ракурсе мы рассматриваем первый собственно художественный роман Мариенгофа «Циники» (1928),[1] который насыщен автобиографическими подтекстами и является своеобразной летописью эпохи. Вместе с тем следует помнить, что объективная биография Мариенгофа еще не написана и нуждается прежде всего в тщательном и выверенном «перемонтировании» фактов.
Сейчас самое время писать о творчестве имажиниста Мариенгофа, так как интерес к нему и другим имажинистам постепенно растет. Для западной славистики имажинизм предмет далеко не новый. Достаточно упомянуть первопроходящую монографию Н. Нильссона, а также книги В.Ф. Маркова, Г. Маквея, А. Лотон и Б. Альтхаус.[2] В то время как всплеск внимания современных исследователей в России не в последнюю очередь обусловлен тем фактом, что творчество представителей этой литературной группы постепенно становится достоянием широкого читателя.[3] Наиболее известный из имажинистов — Сергей Есенин — по-прежнему активно изучается и в России, и на Западе. Напротив, Мариенгоф и Вадим Шершеневич — типичные писатели, «возвращенные» в историю русской литературы. Лишь в конце 1980-х — начале 1990-х годов началась публикация их «забытой» прозы и мемуаров,[4] а затем сборников стихов и теоретических текстов.[5] В 2000-е в Малой серии «Библиотеки поэта» вышли «Стихотворения и поэмы».[6] Теперь и в России этой теме посвящают научные работы и диссертации, так что возвращение состоялось.[7] Одна из наших целей — учесть западные и российские имажинистоведческие работы, что до сих пор не делалось при изучении имажинизма.
В своем исследовании мы ставим своеобразный концептуальный эксперимент, пытаясь выяснить, как имажинисты определяли самих себя, каковы принципы имажинистского, прежде всего мариенгофского, текста и как это все помогает понять его творчество 1920-х годов. Работа имеет трехчастную структуру. Первая глава имеет концептуально-исторический, а вторая теоретический характер. В третьей главе сделанные ранее наблюдения и выводы применяются к конкретному материалу — роману «Циники». Наш метод можно было бы определить как основанный на истории литературы концептуальный анализ и close reading с учетом современного семиотического понимания механизмов русской культуры и использованием приемов интертекстуального анализа. Такой подход обусловлен самим изучаемым материалом. Основным источником выбранного для настоящей работы метаязыка служит семиотика со своей принципиальной природой ad hoc по отношению к русской культуре. Мы опираемся на самопонимание определенной культуры, вследствие чего ключевые концепты настоящей работы приобретают двоякую функцию. Они являются одновременно и предметом изучения, так как возникают из самой истории русского имажинизма, и ключевыми элементами метапонятийного аппарата, с помощью которых анализируются тексты.
В творчестве Мариенгофа 1920-х годов мы будем прослеживать три основных концепта: дендизм, монтаж и катахрезу и на их основе выявлять особенности его имажинизма. Дендизм (от англ. dandyism) основан на мариенгофском протоимажинизме, который в значительной степени повлиял на эстетику и «бытовой театр» имажинистской группы. В первой главе это явление анализируется в контексте тематического репертуара имажинистов. Принцип монтажа (от фр. montage) рассматривается нами во второй главе как некое метаконцептуальное целое, включающее в себя существенные для этой поэтической группы теоретические установки, которые, впрочем, далеко не всегда применялись ее представителями. Метаконцептуальным его делает прежде всего тот факт, что сами имажинисты это понятие не употребляли, хотя широко пользовались монтажными приемами.
Третья глава посвящена роману «Циники» как воплощению имажинистского монтажного принципа. Мы предлагаем здесь разные, но взаимосвязанные и комплементарные прочтения этого произведения. В том числе прослеживаем историю его публикации, которая складывается в сюжет о «забытом» тексте. В первую очередь роман рассматривается нами с точки зрения понятий «вымысел» и «факт», т. е. прочитывается сквозь призму реальной биографии самого Мариенгофа и поэтов его круга. Затем акцент перемещается на эпитет «имажинистский», и на первый план выходит связь романа с поэтическим творчеством и имажинистской теорией Мариенгофа, которая обсуждается прежде всего в формальном ключе. Кроме того, анализируем роман как «фрагментарный» и «монтажный», подразумевая две стороны его композиции — поверхностную и глубинную структуры, определяющие механизмы смыслопорождения в данном тексте. Вслед за этим в фокус нашего внимания попадает авторская концептуализация романа как «революционного», основанная на трактовке Мариенгофом Красного Октября. Этим интерпретационным экскурсом заканчивается последняя глава.
Понятия «dandy» и «montage» не только конкретизируют скрытую англо- и франкофилию Мариенгофа, но и сталкиваются в его случае с авангардистским катахрестическим восприятием мира. Поэтому понятию «катахреза» (от гр. хатахрлоц;) мы тоже придаем метаописательную функцию. Принципиально важно и то, что все эти концепты возникают из самого имажинизма Мариенгофа, так как в той или иной мере они использовались в рассматриваемой культуре. В этом состоит суть избранного нами подхода к предмету — нас интересует именно самопонимание русского имажинизма на примере творчества его лидера Анатолия Мариенгофа.