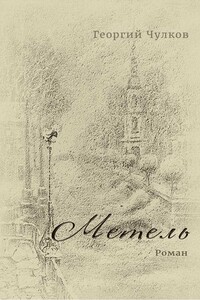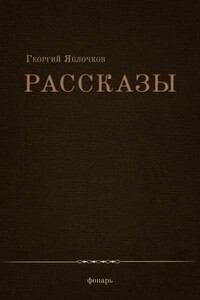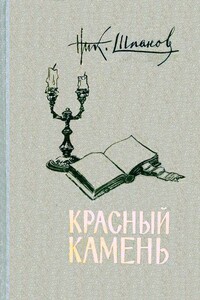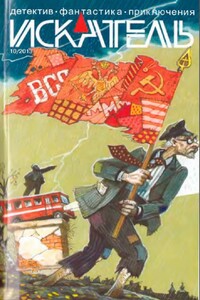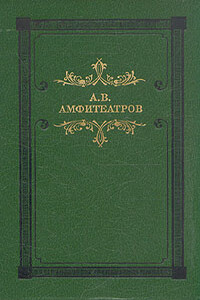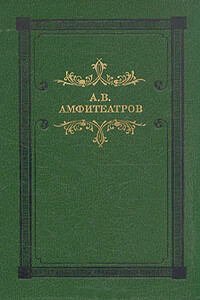Ветхозаветный библейский мир сравнительно слабо отражён сказочною фантазией христианских народов. Собственно говоря, это странно: казалось бы, времена чудес, какими полна каждая страница Пятикнижия, книги Иисуса Навина, книги Судей, Пророки, воинственный эпос книги Царств и Маккавейской, должны были глубоко запасть в душу дикаря-неофита когда он менял простодушную мистику своей первобытной, стихийной мифологии на возвышенную простоту религии Христа, за которую, как основной фон её, просвечивала религия Моисея и тысячелетняя таинственная история «избранного» народа, ею созданного, ею управляемого. Между тем, заглянув хотя бы в связанные с церковным календарём легенды, поверья и предания древней Руси, мы найдём, что грандиозные фигуры Моисея, Самуила, Давида, Исаии, Иеремии или не оставили в них вовсе следа, или — только мимолётный, гораздо бледнейший, чем даже второстепенные и третьестепенные деятели христианской эры. Как будто — новообращённым народам Ветхий Завет становился известен не сразу, но — когда они уже выходили из своего, так сказать, эпического детства, отказывались, — за отвычкою, — от потребности поставить на место старой своей, ныне запретной мифологии, новую, извлечённую из неправильного понимания книг Св. Писания и Предания. Книжники древней Руси знают Ветхий Завет в совершенстве, но книжники — не народ, а раскольничьи хитросплетения на ветхозаветные темы нельзя принимать за вышедшие из глубины народного мировоззрения: это — византийское, схоластическое веяние, достояние интеллигенции XVI и XVII веков, которое влияло на ограниченный кружок письменных людей, распространяясь в народе вряд ли больше, чем, например, современные религиозно-философские достояния интеллигенции, — спиритизм и теософизм, — откликаются в современном народе. Адам, Каин и Авель на луне, бряцающий на лире царь Давид, маг Соломон — вот едва ли и не все библейские образы, произведшие на народную фантазию столь сильное впечатление, что она отозвалась на них самостоятельным творчеством. Царя Давида мы видим главным действующим лицом в апокрифе, ставшем народным в излюбленном духовном стихе древней Руси «О книге Голубиной»; имя и характер Самсона сохранились лишь, как намёк, в былинах о «старших» богатырях; Соломон зашёл в народ не столько из библии, сколько из восточных сказок, с характером царя-чародея из «Тысячи и одной ночи». Народ создавал десятки легенд о Козьме и Дамиане, Борисе и Глебе, Фроле и Лавре, о св. Сисинии, грозе лихорадок, о Параскеве-Пятнице, не говоря уже о святых любимцах его воображения — ап. Петре, Иоанне-Крестителе, Николае-Чудотворце, но в ветхозаветный пантеон он почти не заглядывает — мир ante Christum natum оставался в ведении книгочеев, начётников из «интеллигенции», едва ли не до последнего времени, т. е. до школьной грамотности. Обстоятельство это, быть может, — отчасти искусственного происхождения. Нам известно из истории первых веков христианства, что оно не сразу примирило учение Евангельское с наследием Моисея и пророков, что были секты, полагавшие Ветхий Завет совершенно упразднённым через Новый, а иные из ересей гностических доходили в последовательном развитии этой идеи даже до той крайности, что вовсе отметали Ветхий Завет, как порождение обмана, в который ввёл человечество низший дух, властитель земли, — враг верховного Божества и «эона» Иисуса, ниспосланного, чтобы спасти обманутую духом-самозванцем землю. Так как слабое влияние ветхозаветной истории на народное творчество, отмеченное для русской легенды, почти таково же и на Западе, то, быть может, не будет неосторожным предположить, что первые миссионеры христианства у кельтов, германцев, славян, — памятуя недоразумения, какими неоднократно отзывалось столкновение грозных фактов библейской истории с краткою евангельскою моралью в умах робких, неопытных и ещё нетвёрдых в вере, — не слишком усердно настаивали на ближайшем знакомстве неофитов с Ветхим Заветом, довольствуясь краткими его обзорами — конспективного характера, вроде тех, что встречаем мы у апологетов II века или у Нестора. Известно, что католическая церковь объявила в средние века библию книгою, опасною для чтения частных лиц, и воспретила последним иметь её на дому, особенно, в переводе с латинского текста. Косвенное отражение того же взгляда находим мы в житии св. Никиты, епископа Новгородского (ум. 1108 г.), одного из первых затворников Киево-Печерской лавры. Когда он был в затворе, «бес, явившийся в виде ангела, дал ему совет оставить молитву и заниматься только книгами, а на себя принял молиться за него и молился в виду его. Скоро стал Никита прозорливым и учительным. Никто не мог сравниться с ним в знании книг Ветхого Завета; он знал их на память; но книг Нового Завета он чуждался. По этой последней странности поняли, что он обольщён. Игумен и подвижники печерские, помолясь о заблудшем брате, прогнали беса-прельстителя. Они вывели Никиту из затвора и спрашивали о Ветхом законе, желая что-нибудь услышать от него. Но он с клятвою уверял, что никогда не читал книг. Тот, который прежде знал наизусть все ветхозаветные книги, теперь не помнил ни слова, и отцы едва, научили его грамоте». Впрочем, незачем забираться в глубь веков. Всего в первой половине нашего столетия, предприятие русского перевода библии было встречено большим недоброжелательством Фотиевой клики, послужило поводом к пылким спорам чуть не об ереси и, во всяком случае, о неблагонадёжности религиозной, и испортило жизнь о. Павскому, перевод которого так и остался недоконченным. Когда Лесков, в одном из полуисторических рассказов-анекдотов своих влагает в уста известного ханжеством своим фельдмаршала Остен-Сакена совет: «Не читайте библии, — это мирская книга!» — он выражает лишь мнение, действительно, распространённое среди многих теологов: для всех-де — толкования библии, самая же библия — лишь для умеющих обращаться с нею богословов-специалистов.