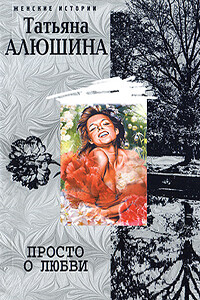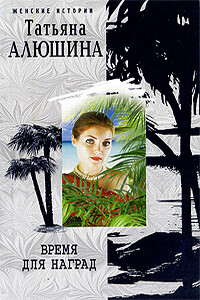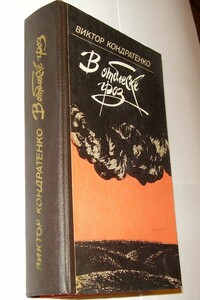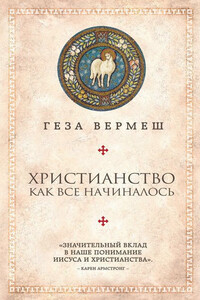Как не крепок недолгий беспамятный сон на рассвете, а Котькины уши улавливали нарастающий скрежет колёс и противное дребезжание первого трамвая, который сыпля бело-голубыми искрами из-под дугового ролика, неспешно поворачивал с площади Фрунзе на улицу Чапаева. Красно-жёлтый вагон с двойными немытыми стёклами в шатких рамах собирал деповских рабочих. Спросонья они понуро переминались с ноги на ногу на остановках под кронами огромных тополей, которыми была обсажена улица. И только ступив на подножку «дежурного», на лицах их появлялось подобие мстительной ухмылки. Ведь они хорошо представляли, как всякий раз, когда молоденькая кондукторша, забавляясь, дергала ремённый шнур звонка, давая раздиравшему в зевоте рот вожатому сигнал к отправлению, в близлежащих домах вздрагивали в постелях жильцы и ошалело искали опухшими ото сна глазами спасительные «ходики». Разглядев застывшие на нижней точке циферблата стрелки часов, облегчённо проваливались в томную дрёму: трамвайная побудка происходила на полчаса раньше призывного пикания московского радио.
Котька выжидал, когда грохот железа прокатится по рельсам мимо его родной двухэтажки, и, чувствуя прилив молодых сил, легко вскакивал на ноги.
На смену ему нужно было к семи. Но такому расторопному парню, как Костя Карякин, чтобы помыться, побриться, впрыгнуть в портки и на ходу застёгивая рубаху и глотая холодный чай, успеть прочитать несколько страниц Гоголевского «Тараса Бульбы», хватало минут двадцать. До проходной Судаковского завода пёхом ещё десять. Итого на всё про всё уходило полчаса.
Получалось, что ненавистный большинству обывателей первый трамвай дарил Котьке утром бесценный час времени, за который тот успевал сбегать на Волгу искупаться; натаскать воды из колонки; проверить, не пересушилась ли вяленая рыба на чердаке; кинуть в голубятне корму белым чистякам и рыжекрылым дутышам и уже на ходу вылить остатки вчерашней похлёбки в погнутую алюминиевую миску дворовой собаке — старому доходяге Бурану. Но главное, по дороге на завод, у него хватало терпения сделать крюк и заглянуть на пекарню.
Там у деревянных некрашеных ворот уже ждал его сосед по двору — подсобный рабочий Иван Кузьмич Фролов, — сухонький, чуть кривобокий мужичишко, который в свои сорок лет выглядел на шестьдесят. Где-то на Шпрее тяжёлый немецкий снаряд обрушил отбитый у немцев же трёхслойный блиндаж, в котором укрывалось отделение морских пехотинцев. Краснофлотца Фролова вроде и не покалечило, только придавило малость, как ему показалось, но и не дало сил распрямиться. Зачах морпех, как опалённый на корню куст чернобыла.
Иван Кузьмич выносил под полой когда-то чёрного, а теперь серого от белой мучной пыли халата горячий калач, который невозможно было спрятать от чужих глаз.
— Посадят тебя, дядя Ваня, за воровство, — подтрунивал Котька над соседом, аккуратно запаковывая золотистый хлеб в восьмиполосную газету «Правда». Иные средства партийной печати для огромного калача были жидковаты.
— Моё воровство честное, — щуря светлые глазёнки и нервно поправляя на голове никогда не снимаемую кепку, ворчал Кузьмич. — Сам знай, под ноги гляди.
— А вдруг?
— Не шуми у браги, а то к пиву не позовут, — отмахивался Фролов.
— Намекаешь?
— А вам бы всё халявку?
— Тогда не забудь стакан ополосни! — Котька расплачивался с инвалидом чекушкой водки по выходным и непременно с утра.
— Нет, новый куплю, — скалился Кузьмич и громко сморкался в полу халата.
Забавно, что он почти никогда не выпивал среди рабочей недели, но по воскресеньям с пробуждением опоражнивал гранёный стакан за павших однополчан и часами сидел молча, не закусывая. В полдень Кузьмич уходил на речной вокзал, где в буфете бражничали фронтовики и где всякому недовольному Сталиным могли запросто свернуть скулу. Несмотря на свою немощь, Фролов слыл известным драчуном и частенько возвращался домой навеселе с распухшей губой. Притом в понедельник неизменно выходил на работу трезвым.
— Передавай наш с кисточкой Семёну Яковлевичу, — Кузьмич слегка касался пальцами засаленного козырька кепки.
— Непременно! — уже на ходу кивал Котька.
Горячий калач бригада дербанила как мальки в запруде брошенный в воду мякиш. Ноздрястый хлеб запивали холодным молоком прямо из горлышка стеклянной посуды.
Кузнечный цех, где они работали, считался вредным для здоровья, и каждому рабочему полагалась бутылка молока. Заводское начальство, конечно, предпочитало выдавать оздоровительный напиток в обеденный перерыв, но в столовой не было больших холодильных камер, и в жару молоко скисалось. Поэтому проволочные ящики с бутылками привозили утром прямо в цех.
Их бригадир, тоже Котькин дворовый сосед, Семён Яковлевич Манкевич для вида хмурил тёмные кустистые брови и показывал на свои вечно отстающие часы на сопревшем кожаном ремешке, но от угощения и сам не отказывался. Медленно поедая выделенный ему ломоть, он каждый раз произносил: «Я вам интересуюсь, когда мы ели такой хлеб?»
Высокая сутулая фигура худощавого и носатого, чёрного лицом и не по летам с чёрными курчавыми волосами Семёна Яковлевича вызывала у незнакомцев оторопь, но свои рабочие знали покладистый характер старика и мало обращали внимание на его бурчание.