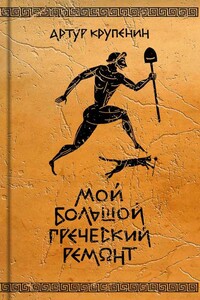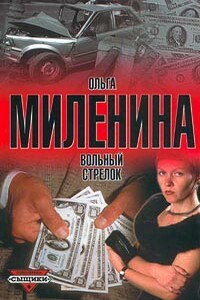Когда— нибудь я расскажу вам и о дяде Теофиле, который после неудавшейся попытки покорить европейский рынок с помощью изобретенного им крема против выпадения волос и полного фиаско в другом своем начинании -разведении бобров на реке Марице, на известное время успокоился, женился на дочери пазарджикского аптекаря Кенарова — тогда аптекари зарабатывали прилично — и стал думать о том, как устроить будущее своих детей. Прежде всего он позаботился об их именах, так как по его замыслам отпрыски Теофила Радковского должны были стать не иначе, как высшими военачальниками, государственными деятелями или крупными учеными. К искусствам он относился с прохладцей, и однажды, когда я спросил: «Дядя, а почему ты не окрестил одного из сыновей именем, скажем, Шаляпина? Совсем неплохо бы звучало — Федор Радковский…» — он мне заявил: «Зелен ты еще, племянник, — и постучал мне пальцем по лбу, — не случайно в народе говорят, музыкантишка и матери не прокормит. То ли дело — китель с погонами, кабинет и звание». Тут он внезапно прервал нашу беседу и завопил: «Ах ты, поганец, сейчас я тебе покажу!» — и бросился вдогонку за Александром Радковским, первородным сыном, названным в честь Александра Македонского. Мой кузен беззаботно вытаптывал огородные грядки, не подозревая о чудовищности своего преступления. Дядя Теофил, который ничуть не сомневался, что богатство и слава в самое скорое время постучатся в двери дома, тем не менее запасался заготовками на зиму. Он сам выращивал помидоры, сам заказывал банки и стерилизовал их в казане собственной конструкции. Дядя Теофил был энергичным человеком, жалко, что сыновья пошли не в отца.
Я завел речь об этом, чтобы вы сами могли убедиться, как часто наследники не походят на родителя, что с того, что народная мудрость гласит: яблоко от яблони не далеко падает.
Так уж случилось, что в расцвете лет, а заодно и идей, дядя Теофил сильно простудился, занемог и слег. Поскольку тогда не было современных лекарств, в частности антибиотиков, его врачевали, чем могли — горчичниками и пиявками, однако без всякой пользы, больному становилось все хуже. В конце концов врачи, родня и друзья, да и сам он уверились в том, что дни его сочтены. Жалко, что в то время его сыновья Александр, Альфред — названный в честь Альфреда Нобеля, и Август — разумеется, в честь императора Октавиана Августа, понятия не имели о том, какую участь пророчил им отец, и устроили потасовку из-за бумажного змея, вместо того чтобы встать подле умирающего и выслушать его последние слова.
Впрочем, вряд ли последние его слова, несмотря на несомненное присутствие в них здорового практицизма, могли бы послужить им в качестве путеводной звезды. Собрав последние силы, он прошептал: «Надо было открыть окошко в подвале, капуста в бочке протухнет». Затем он с укором посмотрел на жену и преставился.
В дальнейшем жизнь семьи Радковских была полна всяческими событиями, и если бы в поле зрения Бальзака попала их история, он забросил бы все остальные сюжеты и занялся только ею, но не в этом дело. Гораздо важнее, что однажды настал момент, когда я как близкий родственник и самый старший из всех двоюродных братьев должен был позаботиться о судьбе самого младшего сына дяди Теофила — Августа.
В отличие от первых двух — жилистых, кряжистых и драчливых, Август смахивал на чувствительного поэта — меланхолическая красота, кудри, бездонные синие очи, мечтательность. Вообще, он олицетворял тот тип флегматичных и непригодных к жизни людей, которых на дух не выносил его покойный отец, да что тут поделаешь. Я предоставил Августу мансарду в своем доме, так как он наотрез отказался жить вместе с нами — не хотел быть помехой. Август заявил, что форма потолка чудесная и кушетка тоже восхитительная. «Благодарю тебя, кузен, — сказал он, кладя руку на сердце, — ты просто осчастливил меня». Затем он застенчиво попросил у меня разрешения повесить в мансарде одну акварель, которая будет чудесно смотреться в этом оберлихте. «Что, что? — вскричал я. — Что ты собираешься принести?» «Акварель, кузен, — сказал Август. — Ты же не рассердишься за это?»
И посмотрел на меня умоляющим взглядом.
Я махнул рукой, в конце концов ему тут жить, а я всего лишь пообещал родным подыскать Августу жилье и работу.
То, что он называл акварелью, на что взирал с таким умилением и о чем говорил с дрожью в голосе, то, что должно было чудесно смотреться в этом оберлихте, то есть свете, падающем с потолка, и могло вызвать мой гнев, оказалось куском картона, обильно намазанного фиолетово-синей краской. В центре композиции в тонкой паутине цвета резеды просматривалось нечто, похожее на солнце, если допустить, что солнце бывает зеленым.
Здесь следует пояснить: я не имею ничего против различий во вкусах. Пусть кому-то нравится зеленый лист, кому-то дождливый день или мрачное солнце. Все эти вещи имеют для кого-то свою ценность, и не стоит пожимать плечами или высокомерно усмехаться, если кто-то мечтательно уставится на солнце или на листочек. Потому что именно эти листья, солнце или дождевые капли делают счастливыми не только отдельных людей, но и весь мир, вместе взятый. Как бы мы жили, если бы не было восхода и заката солнца, севера и юга, лета и зимы, и все текло равномерно и одинаково, если бы не было различий и перемен, если бы люди не умирали, раз уж они рождаются на этот свет, если бы часы все время показывали полдень или полночь, если бы деревья были все время зелеными, а небо пронзительно синим? Было бы страшно, было бы холодно и мертво, но это уже другой вопрос. Здесь я просто хочу отметить, что не имел ничего против акварели Августа — раз она ему нравится, пусть себе тешится ею.