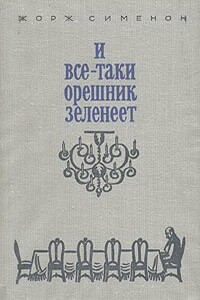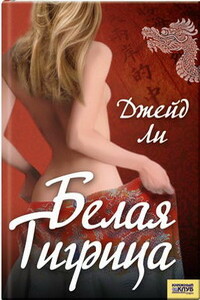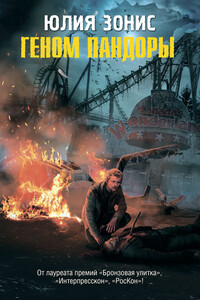Был ли я в то утро счастливее или несчастливее, чем в другие дни? Не знаю, да и само слово «счастье» уже почти не имеет смысла для семидесятичетырехлетнего человека.
Во всяком случае, эта дата мне запомнилась: 15 сентября, вторник.
В двадцать пять минут седьмого мадам Даван, которую я называю своей домоправительницей, бесшумно и плавно вошла ко мне в спальню и поставила чашку кофе на ночной столик. Потом она подошла к окну и подняла шторы. Я сразу же увидел, что солнца нет, воздух насыщен влагой и, может быть, идет дождь.
Мы поздоровались без лишних слов. Мы вообще мало разговариваем друг с другом.
Я принялся за кофе и включил радио, чтобы послушать утренние известия, а она тем временем убрала одежду, оставленную мною с вечера.
Это уже стало ритуалом. Он создавался постепенно, и я сам не знаю, почему мы так свято его соблюдаем.
Мадам Даван напускает воду в ванну, а я пью свой кофе, прежде чем встать и облачиться в халат. Подхожу к окну. Я делаю это каждое утро. Смотрю на пустынную Вандомскую площадь, на длинные роскошные автомобили перед отелем «Риц», на полицейского, который дежурит на углу улицы Мира.
Проносятся два или три такси, спешит одинокий прохожий, поглядывая на часы. Черная мостовая блестит, как лакированная. Что это, дождь идет или туман оседает на мостовой? По легкому движению воздуха видно, что это мельчайший дождь, который падает медленно, едва заметно, от него-то и почернел асфальт.
За моей спиной мадам Даван ставит мне вторую чашку черного кофе.
— Вам приготовить синий костюм?
Я колеблюсь, как будто это имеет какое-нибудь значение, и говорю:
— Нет, серый… Потемнее…
Наверное, чтобы быть одетым под стать погоде. Дождь не перестанет весь день. Это не ливень, который скоро проходит. Площадь очень красива в этом приглушенном свете, особенно в час, когда еще мало кто встал. Я вижу только два освещенных окна: там работают уборщицы.
Я знаю, что в кухне Роза Барбетон, горничная, подает завтрак своему мужу, который еще не надел белой куртки и белой поварской шапочки. Вот уже пятнадцать лет они работают у меня, Они спят в мансарде, как раз у меня над головой.
— Хотите что-нибудь заказать к завтраку или обеду?.
— Нет.
— Вы никого не приглашали?
— Нет…
Я так редко кого-нибудь приглашаю! Реже просто невозможно. Понемногу я привык есть один и теперь устаю говорить и слушать за столом.
Кроме кухни, вся квартира пуста: мой кабинет, бывшая комната моей жены, ее будуар, и, разумеется, детские, так же как и большая гостиная и столовая.
Мадам Даван спит в комнате, которая долго принадлежала Жан-Люку. Сначала она хотела тоже устроиться в мансарде, но по ночам я чувствовал себя слишком одиноко в большой квартире, где стояла мертвая тишина и где, кроме меня, не было ни души.
В то утро все шло так же, как и в любое другое утро. По радио не сообщили ничего интересного. Выкурив сигарету, я потушил ее в пепельнице и направился в ванную. Первой моей заботой было побриться.
Вот еще одна привычка, которую ничем нельзя объяснить. Большинство мужчин бреются после ванны, потому что тогда борода становится мягче. Не знаю почему, я делаю наоборот. За последние несколько лет, вероятно с тех пор, как я живу один, я привык делать одно и то же в одни и те же часы.
Я слышу, как мадам Даван ходит взад и вперед по спальне. Она знает, что я терпеть не могу вида неубранной постели, резкой белизны смятых простынь. Она не уходит, пока я не оденусь, подает мне то, что я ношу при себе, а я раскладываю это по карманам.
В общем, она исполняет обязанности лакея. Я всегда не терпел, чтобы при моем туалете присутствовал мужчина.
В семь часов я слышу шаги в кабинете, смежном с моей спальней. Это Эмиль, мой шофер, принес утренние газеты и положил их на столик. Он живет в пригороде, кажется возле Альфортвиля, его жена вот уже около двух лет лежит в больнице. Каждое утро, прежде чем выйти из дому, он убирает свою квартирку. Через несколько минут он тоже сядет завтракать в кухне.
Совсем маленький мирок, всего пять человек в квартире, предназначенной для большой семьи и для приемов. Сейчас придут две уборщицы, которые, делают черную работу: каждый день они пылесосят все комнаты, даже те, в которых теперь никто не бывает.
Я пока еще не надеваю пиджака, а только легкий халат и сажусь в свое кресло в кабинете. Здесь я провожу немало времени, а если мне нездоровится, остаюсь на целый день.
Пол застлан бежевым ковром, стены обтянуты кожей, такой же как и кресла, только немного светлее. На стене, напротив моего любимого места, я велел повесить большую картину Ренуара: это купальщица, молодая и цветущая, капли воды скользят по ее розовой коже. Она рыжеволосая, ее нижняя губка капризно выпячена вперед.
Я смотрю на нее каждое утро. Здороваюсь с ней.
Из-за этого мелкого дождя, из-за беспросветно серого неба мне сегодня приходится сидеть при зажженных лампах, и со своего места я вижу, как освещаются окна напротив.
Есть ли у других, как и у меня, привычки, без которых они уже не могут обойтись? Прежде я не был таким. Мне кажется, что тогда дни не были похожи один на другой, я никогда не знал ничего заранее, не знал, где окажусь вечером и в котором часу лягу спать. Теперь я это знаю. В одиннадцать часов. Почти минута в минуту.