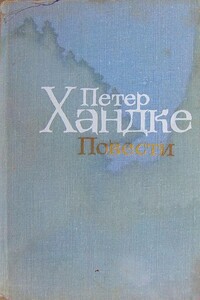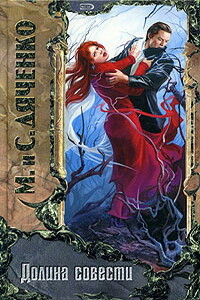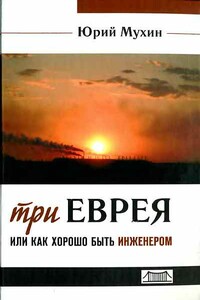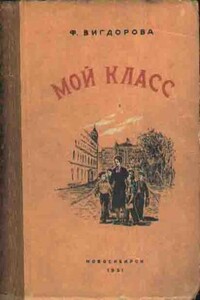С газетных полос, со страниц журналов, с суперобложек книг смотрит лицо: удлиненный овал, волосы, падающие на воротник бархатной куртки или расстегнутой клетчатой рубахи, глаза за стеклами темных очков, тонкие черты, почти девичья мягкость которых в последние годы скрадывается усами… Это Петер Хандке, «мальчик из сказки». Многие считают его «австрийским писателем номер один»; его называют «любимым дитятей западногерманской критики», «showboy’eм новой литературы». Ему и сейчас еще нет сорока лет, а когда о нем заговорили впервые, едва исполнилось двадцать четыре года.
В 1966 году в американском городе Принстон проходило выездное собрание «группы 47» — достаточно значительного и представительного объединения немецкоязычных писателей на Западе. Взял слово тоненький юноша и обвинил всю новейшую литературу в «голой описательности», в «художественной импотентности». Выступление Хандке наделало много шума, вызвало споры, относившиеся не столько к предмету обвинений, сколько к личности самого обвинителя. Тем более что он, вернувшись из США, заявил, будто главной его целью было попасть (с помощью принстонского скандала) на страницы журнала «Шпигель» — этой лучшей в ФРГ рекламы для начинающего автора.
Репортеры и даже литераторы легко приняли саркастическую ухмылку Хандке за чистую монету. Ведь в Принстоне он еще не был никем, не имел никакого литературного багажа, способного свидетельствовать если не о таланте, так по крайней мере о серьезности притязаний. Его первый роман — «Шершни» — вышел лишь за несколько недель до принстонского собрания, а за собрании он читал отрывок из другого, еще не законченного романа, изданного в следующем году под названием «Разносчик». В обоих этих книгах явственно ощущается влияние французского «нового романа», и в частности Роб-Грийе.
В том же 1966 году стали одна за другой печататься и появляться на сцене короткие хандковские пьесы: «Поругание публики», «Предсказание», «Саморазоблачение». Это странные пьесы: в них нет конфликта, нет действия, нет даже персонажей.
Игра слов, речь, язык — вот главное действующее лицо хандковского театра (да, собственно, и хандковской ранней прозы: «Шершней», «Разносчика»), то содержание, которое не выходит за пределы литературы и в итоге становится самодовлеющим. Это — формализм. Несколько лет спустя Хандке и сам назовет «Предсказание» пьесой формалистической, а по поводу другой своей пьесы скажет: «"Я" в «Саморазоблачении» — это не «я» повествования, а только «я» грамматики». Но в «Саморазоблачении» содержится и нечто иное. Вещь построена как католическая исповедь или, если угодно, как пародия па исповедь: «Я садился на места, предназначенные для других особ. Я не шагал дальше, когда приказывали дальше шагать. Я шел медленно, когда было велено идти быстро». И чуть ниже: «Я говорил. Я высказывал. Я высказывал то, что уже подумали другие. Я лишь думал то, что уже высказали другие. Я выражал общественное мнение». Перед нами не просто «"я" грамматики» — речь идет о социализации личности, о ее сопротивлении общественному давлению и о ее конформистской мимикрии.
Все это реализуется через язык и отпечатывается в нем. О его роли и власти Хандке написал пьесу «Каспар» (1968). Каспар неуклюже вваливается на сцену с одной-единственной фразой на устах: «Я хотел бы стать таким, каким некогда был кто-то другой». Она выражает его бессознательное стремление к очеловечиванию, и в то же время на ней замыкаются все его контакты с внешним миром. И тут в игру включаются Суфлеры. Они невидимы — просто записанные на пленку металлические настырные голоса. Они членят Каспарову фразу, образуя из осколков новые сочетания. Они учат Каспара говорить, навязывая ему обиходные штампы. Повторяя слова, он осваивает и присваивает действительность.
До сих пор язык играл конструктивную роль. Но в самой неподвижности его штампов уже заложена опасность деструкции. Обучаясь у Суфлеров языку, послушно повторяя за ними: «Каждый должен мыть руки перед едой; каждый, садясь в тюрьму, должен все выложить из карманов», Каспар попадает в предуготованную жизненную колею, оказывается в полной зависимости от существующей социальной системы.
Западногерманский критик М. Бланко написала о «Каспаре», что пьеса эта «при всей своей формально-эстетической модерности поднимает актуальную общественно-критическую проблему…». Это верно. Но, сознавая общественную значимость языка, Хандке видел его отношение с обществом перевернутым. «Мир фраз, — писал он в одной из своих рецензий на страницах «Шпигеля», — предписывает образцы миру людей и предметов».
Однако Хандке, к счастью, на этом не остановился. «Крики о помощи» (1967) — его последняя «разговорная пьеса», то есть начисто лишенная декораций, фабулы и так называемой «четвертой стены», отделявшей зал от рампы. Какой-то минимум действия, не заключенного в самом слове, появился уже в «Каспаре». А «Опекаемый хочет стать опекуном.» (1969) — это вообще пантомима. Там, как и в пьесе «Всякая всячина» (1970), хандковская проблематика распространяется и на взаимоотношения между людьми, на случайные и в то же время застывшие формы подчинения и господства.