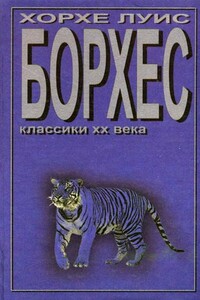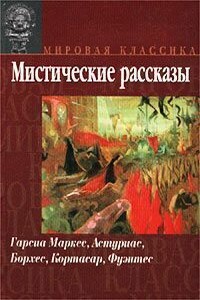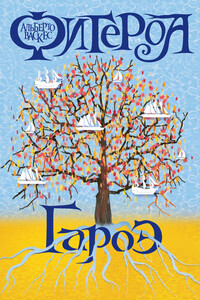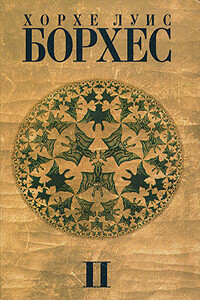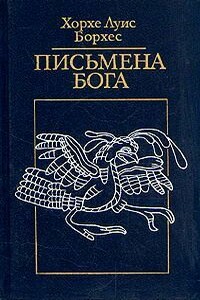Много лет я не уставал повторять, что вырос в районе Буэнос-Айреса под названием Палермо. Признаюсь, это было попросту литературным хвастовством; на самом деле я вырос за железными копьями длинной решетки, в доме с садом и книгами моего отца и предков. Палермо ножей и гитар (уверяли меня) ютился в любой пивной, в 1930 году я посвятил специальную работу Эваристо Каррьего, нашему соседу, обожателю и певцу окраин. Вскоре случай столкнул меня с Эмилио Трапани. Я направлялся поездом в Морон; Трапани, сидевший у окна, окликнул меня по имени. Я не сразу узнал его: с тех пор как мы сидели за одной партой в школе на улице Темзы, прошел не один десяток лет. Его наверняка помнит Роберто Годель.
Мы никогда не были особенно близки. Время и взаимное безразличие развели нас еще дальше. Помню, он посвящал меня в начатки тогдашнего «лунфардо». Завязался один из тех тривиальных разговоров, когда силишься извлечь из памяти бесполезные факты и обнаруживаешь, что твой одноклассник, в сущности, умер, оставив по себе только имя. Неожиданно Трапани сказал:
— Мне дали прочесть твою книжку о Каррьего. Ты там все толкуешь о временах головорезов. Откуда тебе- то, Борхес, знать о головорезах?
Он посмотрел на меня с простодушным изумлением.
— Я изучал документы.
Он прервал:
— Документы — это слова. Мне документы ни к чему. Я знаю самих этих людей. — Минуту помолчав, он добавил, словно открывая секрет: — Я — племянник Хуана Мураньи.
Из поножовщиков Палермо девяностых годов Муранья был самым известным. Трапани пояснил:
— Моя тетушка Флорентина была его женой. Это может тебя заинтересовать.
Прорывавшийся кое-где риторический пафос и некоторые слишком длинные фразы наводили на мысль, что он рассказывает свою историю не впервые.
— Матери всегда не нравилось, что сестра связала жизнь с Хуаном Мураньей: он так и остался для нее грубым животным, а для тети Флорентины был человеком действия. О его кончине ходили разные слухи. Иные уверяли, что как-то ночью, мертвецки пьяный, он вывалился из своей коляски на углу улицы Коронель и размозжил голову о камень. Рассказывали еще, что его искала полиция и он бежал в Уругвай. Моя мать, никогда не переживавшая за своего зятя, ничего мне не объясняла. А я был еще мал и не помнил его.
В год Столетнего юбилея мы жили в переулке Рассела, в длинном и тесном особняке. Черный ход, обычно закрытый на ключ, вел на улицу Святого Сальвадора. Тетушка, тогда уже в годах и со странностями, ютилась в комнатке наверху. Худая и ширококостая, она была или казалась мне — очень рослой и чаще молчала. Не терпя свежего воздуха, тетя не покидала дома и не любила, когда входили к ней. Я не раз замечал, как она таскает и прячет пищу со стола. В квартале поговаривали, что после смерти или исчезновения Мураньи она слегка помешалась. Помню ее всегда в черном. Еще у нее была привычка разговаривать с собой.
Особняк принадлежал некоему сеньору Лучесси, хозяину цирюльни в районе Барракас. Мать шила на дому, но дела наши были плохи. Не понимая всего, я ловил произносимые шепотом слова «судебная повестка», «опись имущества», «выселение за неуплату». Мать впала в уныние, а тетя упорно твердила: «Хуан не допустит, чтобы какой-то гринго вышвырнул нас на улицу». Каждый раз — мы уже знали это наизусть — она рассказывала, что произошло с одним наглецом из южных кварталов, который позволил себе усомниться в храбрости ее мужа. Узнав об этом, Муранья не пожалел времени, добрался до другого конца города, отыскал нахала, при кончил его ударом ножа и сбросил труп в Риачуэло. Был ли такой случай на самом деле, не знаю; важно, что его рассказывали и верили в него.
Засыпая, я уже видел себя беспризорником, ночующим на пустырях улицы Серрано, попрошайкой или разносчиком персиков. Последнее мне даже нравилось, поскольку освобождало от школьных занятий.
Не помню, сколько длились наши тревоги. Твой покойный отец как-то сказал при мне, что время не делится на дни, как состояние — на сентаво или песо; все песо одинаковы, тогда как любой день, а то и любой час — иные. Вряд ли я тогда понял, что он имел в виду, но фраза врезалась в память.
Однажды ночью я увидел сон, закончившийся кошмаром. Мне приснился дядя Хуан. Я не знал его, но воображал коренастым, с примесью индейской крови, редкими усами и спутанной шевелюрой. Мы шли на Юг через каменоломни и бурьян, но и бурьян, и каменоломни были улицей Темзы. Солнце стояло высоко. Дядя Хуан был в черном. Он остановился перед какими-то мостками через расщелину. Руку он держал под пиджаком, у сердца, но как будто не вытаскивая, а, наоборот, пряча оружие. Печальным голосом он сказал. «До чего я переменился». Он вынул руку, и я увидел ястребиные когти. Я с криком очнулся в темноте.
Наутро мать приказала проводить ее к Лучесси. Я знал, что она идет просить отсрочки и, наверное, берет меня с собой, чтобы домохозяин увидел ее беззащитность. Сестре она не сказала ни слова: та ни за что бы не позволила ей так унижаться. Раньше я не бывал в Барракас, мне казалось, что там куда многолюдней, больше лавок и меньше заброшенных участков. Повернув за угол, мы увидели возле нужного нам дома полицию и толпу. Переходя от группы к группе, один из местных рассказывал, что в три часа утра проснулся от стука; он слышал, как дверь дома открылась и кто-то вошел. Дверь осталась незапертой, а утром полуодетого Лучесси на шли лежащим в прихожей. Его закололи ножом. Он жил один, виновных не обнаружили. В доме ничего не про пало. Кто-то вспомнил, что в последнее; время убитый почти совсем ослеп. Другой веско добавил: «Видно, при шел его час». Слова и тон произвели на меня впечатление; с годами я убедился, что в таких случаях всегда отыскивается резонер, делающий подобное открытие.