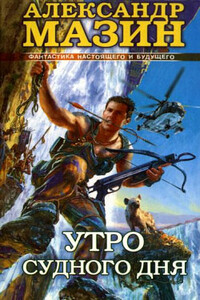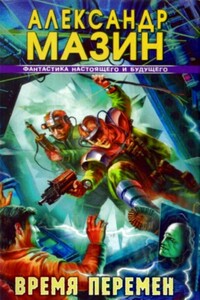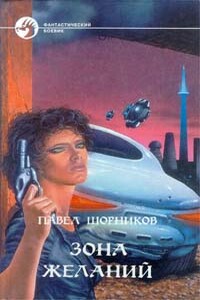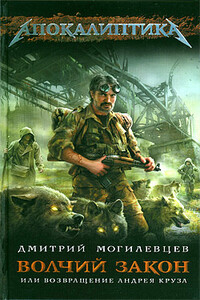ПАТРОН ПЕРВЫЙ:
ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
Тогда было жарко. Мы сидели в кафе, там, где проспект отрывается от площади Победы, и пили дорогое русское пиво. У нас почти не было денег, но мы купили по бокалу «седьмой» «Балтики», холодной до ломоты в зубах, цедили потихоньку, растягивая удовольствие, и говорили про Город и войну. А он сидел за соседним столиком – долговязый, нахохлившийся, спрятавший руки в карманы короткой кожаной куртки. Жара стояла под тридцать, липкая, удушливая, выжимающая пот жара, а он сидел, упрятав руки в карманы. Перед ним на столе стоял полупустой бокал с пивом, лежала непочатая пачка сигарет.
Мы, перебивая друг друга, доказывали, что этот Город построен вокруг войны, минувшая война – главное событие его истории, он волочит ее за собой, только копни – всё полезет наружу. И что это чепуха, всё давно сгнило, рассыпалось, стало словами, война спряталась в телевизор, и никому до этого прошлого нет дела и не было никогда. А он слушал, уставившись в бокал. Потом в кармане у него запищало. Он вынул левую руку, посмотрел на часы. Залпом допил пиво, поморщился. Встал. Вынул из кармана правую руку – вместе с зажатым в ней пистолетом. Шагнул вперед, за тротуар.
И мы, глядя ему вслед, увидели, как от Инъяза на площадь заворачивают машины – сперва джип с черными стеклами, потом низкий серый «мерседес». Сворачивая на проспект, тормозят. А он шагает между джипом и «мерседесом», поднимает пистолет и стреляет. Он успел выстрелить всего раз. Потом «мерседес» ударил его, подбросил в воздух, отшвырнул, словно ломаную куклу, на тротуар. А сам, завизжав тормозами, крутанул вправо, со странным звуком, похожим на хруст ломающегося карандаша, свалил фонарный столб и въехал в витрину писчебумажного магазина. Рядом начали визжать и метаться, из джипа выскочили квадратные тяжелые люди во взмокших от пота белых рубашках, кто-то повалил соседний зонтик, брызнуло пиво. А Дима неестественно спокойным голосом сказал: «Смотри». И показал пальцем вниз.
Заглянув под столик, я увидел: у самых моих ног лежал пистолет. Серый, тяжелый, с выбитым на коробке кожуха номером, с отполированной руками рукоятью. Я хотел что-то сказать и не смог, в горле застряло холодное, гадкое. Мутно подумалось: нужно скорее бежать, нет, спокойно встать или закричать: мы ни при чем, он случайно попал, прилетел, ударом вырвало.
– Не вздумай заорать, – сказал Дима. – Спокойно допиваем пиво и уходим. Война, говоришь?.. Мать твою.
Нагнувшись, он поднял пистолет и сунул в сумку.
Мы допили пиво. Я едва дождался, пока Дима выцедит последние капли. Я его ненавидел. Меня жгло, кубоголовые люди кричали и махали руками у воткнувшегося в витрину «мерседеса», вылившего радужную вязкую лужу, плакала официантка, забыв закрыть пивной краник, кого-то били черными дубинками набежавшие омоновцы, а мы допивали пиво. Потом, через сотню холодных, потных вечностей мы встали и пошли к Инъязу.
Когда на углу Дима, приостановившись, закурил, я прошипел сквозь зубы: «Мудак!» Димка ухмыльнулся и постучал согнутым пальцем по лбу. А я сказал, что он – полнейший дебил, этот пистолет теперь – приговор и мне, и ему, и, если он не выбросит его немедленно и не уедет куда-нибудь в тмутаракань, если его, не дай бог, поймают, он и меня под монастырь подведет, и половину наших знакомых. А он сказал, ухмыляясь: всё будет о'кей, пистолету я найду применение, не сомневайся. Тогда я его ударил снизу в челюсть, а потом в ухо, но он нырнул под удар, и некоторое время я ничего не видел, уткнувшись в свои колени и хватая ртом воздух. А после, когда уже смог дышать нормально, мы пошли в парк, купили по гамбургеру и молча съели, глядя на разноцветные катамараны, ползающие по цвелой свислочской воде. Дима ел морщась – горчица щипала разбитые губы.
Это лето было знойным и злым. С середины мая на Город навалился удушливый азиатский зной, злой, напитанный пылью. Небо, утратив обычную майскую голубизну, превратилось в белесую муть, накрывшую Город катаракту, застоявшуюся гарь. Жара пришла, как внезапный удар под дых после непомерно долгой, растянувшейся на полгода зимы. Весь март лежал снег, апрель бередило нудными, промозглыми дождями, и весна пробилась в Город только к майским праздникам. Длилась она три дня, пока распускалась листва, а потом Город захлестнуло лето. Жара мертвила. Открытые окна не приносили прохлады – горячий ветер нес песок, и осадок в чайных стаканах скрипел на зубах. Пропотевшие воротники рубашек вбирали пыль, превращаясь в наждак, и до крови стирали шею. Сидеть в кабинете стало мукой. К середине июня жара выдавила из Города всех, кто мог себе позволить уйти в отпуск, спрятаться на дачах и в деревнях или в санаториях у пригородных водохранилищ.
Я этого себе позволить не мог. Я жил в крохотной комнатушке академического общежития, похожего на облупленный кусок бетонных сот, стоймя вкопанный в землю. А Дима тогда вообще нигде не жил. Он очередной раз пытался восстановиться на третьем курсе Радиотеха, пил пиво, бродил в сумерках по улицам, а устав, до одури зачитывался Розановым, лежа на коврике в моей комнате. Спал он на этом же коврике, укрывшись старым спальным мешком. В принципе, ночевать он мог в комнате брата, уехавшего в Гамбург аспирантствовать и оставившего в подарок ключи, но ключи Дима, по своему обыкновению, потерял, а взламывать дверь не позволили соседи. Потому он ночевал у меня.