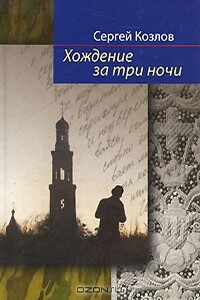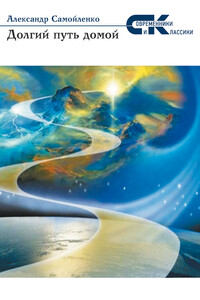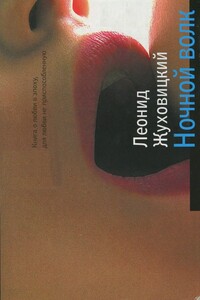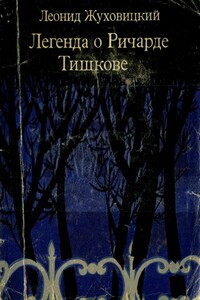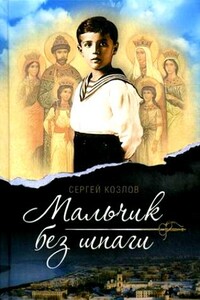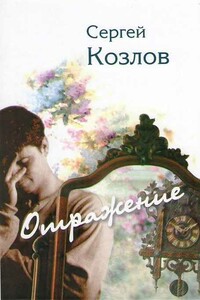Сергей Сергеевич Козлов
ЗОНА БРОКА
Хождение за три ночи
повесть
И скажи
им: так говорит Господь: разве, упав, не встают и, совратившись с дороги, не
возвращаются?
(Иер.
8, 4).
Жаждущий
пусть приходит, и желающий пусть берёт воду жизни даром.
(Откр.
22, 17)
Если бы
не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания.
(Пс.
93, 17)
* * *
Да, так оно и бывает.
Сначала все вокруг становится серого цвета. Сливается с лентой асфальта. Мир
теряет точность контуров, линий, острые утлы закругляются. Несущийся за окнами
пейзаж превращается в аморфную серую массу, размазывается по лобовому стеклу,
обманывает зрение, и открытые глаза перестают видеть, реагировать, понимать.
Это называется спать с открытыми глазами. Потому сумерки на дороге страшнее
ночи...
Петрович уже два раза
сбрасывал этот морок. Останавливался, умывался из пластиковой бутылки, курил не
по графику и громко безадресно матерился. Можно было, вообще-то, ругать самого
себя. За жадность. Потянулся за лишним рублем — вот тебе лишний рейс. Не
отоспался, не отъелся, перепрыгнул со своего КамАЗа в чужую «газель» и погнал
на четверо суток на радость коммерсанту, у которого вдруг занедужил водитель.
Занедужил... Запил, гад! Запил сосед Федька. Не подмени его Петрович, Шагид быстро
найдет другого, и останется Федька без работы.
Но не рассчитал
Петрович... Усталость догнала его уже в первую ночь. Уж давно зарекался: никаких
левых рейсов, здоровье не то — вся выручка на лекарство от геморроя и
остеохондроза уйдет. То на то и выйдет. После сорока стало садиться зрение,
потом, как водится, закровило «рабочее место», а уж спину ломало с юности.
Понадеялся, что Шагид поедет рядом, будет пасти свой товар, болтать без умолку
и петь свои азербайджанские песни, а значит, — бороться со сном будет проще. Но
коммерсант нынче вдруг изменил своему правилу.
— Один поедешь,
Петрович, один. Там земляки тебя загрузят. Деньги везти не надо, бояться
нечего. Я платил уже. Загрузят, накормят, и гони назад. Я эту неделю не могу
ехать...
— Что у тебя, критические
дни? — поддел балагур Петрович.
Не можешь? Не надо.
Дверцей хлопнул и — по газам. Но в первую же ночь вдруг понял, что не рассчитал
сил. Только что пришел с Екатеринбурга, и снова туда. И ног в этой «газели»
толком не вытянешь! Поклюешь руль: не сон, а морока. Эх, отговаривала же Лида!
Не послушал... Рукой махнул. Чего купить-то хотел на левый заработок? О! Уже и
память отшибло...
Ночь на дороге со своими
«колокольчиками». То промчит мимо с ревом «фура», — не захочешь, проснешься. То
праворукая япошка ослепит ксенонами так, что естественная темнота покажется
блаженством. Но потом все равно наступает барьер, когда луч фар собственной
машины превращается в туннель, ведущий в липкий, болотный сон, из которого
можно не вернуться. И превратишься в венок на километровом столбе или, в лучшем
случае, в невзрачный крест...
Включил, было,
магнитолу, да потекла оттуда жуткая восточная заунывь шагидовых земляков. Нашел
другие диски: Федькин блатняк, благородно и глупо называемый в народе шансоном.
Такая музыка тоже быстро надоела, потому как не мог слушать Петрович песни,
восхвалявшие тех, кто тормозил его в девяностые на трассах, вытряхивал из кабины,
наставлял в лоб «помповик» или, того хуже, Калашников, вытрясая все, до
последней копейки, не оставляя даже на бензин. Так и ехал, вглухую.
Когда глаза в очередной
раз стали «замыливаться», со злостью выдавил педаль тормоза, принимая на
обочину. И чуть не сбил идущего вдоль трассы человека... Полметра, наверное,
оставалось... Тот будто вырос из-под земли. Даже в свете фар не сразу понял,
кто перед ним. Тем более что ночной пилигрим вовсе не испугался, а просто
повернулся лицом к свету и даже не зажмурился, не закрыл глаза ладонью. И
первое, что увидел Петрович, было даже не само лицо, а умиротворенное
спокойствие, от него исходившее. Такое, что пятиэтажный мат так и застрял в
горле, не найдя себе выхода. Пришлось его сглотнуть и сказать другое:
— Ты зачем, мил человек,
водителей пугаешь?
Путник молчал. Он,
казалось, был смущен, словно виноват был в том, что брел по обочине в ночное
время и мешал Петровичу ехать, где вздумается. Водитель же, тем временем,
приходил в себя и всматривался в непривычную, черную, как ночь, одежду
странника. Про рясу он понял, а вот названия скуфьи не знал. Больше его удивили
стоптанные армейские кирзачи и лямки такого же армейского вещмешка на плечах.
На вид ему было лет тридцать пять, но лицо и серые задумчивые глаза хранили в
себе удивительное выражение детскости. «Взрослый ребенок»,— похоже, так
называют людей с таким подкупающим детским взглядом. А телом — крепкий высокий
мужик!
— Поп! — неправильно
догадался Петрович.
Путник отрицательно
покачал головой.
— Монашек! — осенило
Петровича. — Настоящий монашек! — Петровичу показалось, что именно он только
что придумал уменьшительно-ласкательное от слова «монах».
— Тебе куда? Поехали,
мне в ту сторону, разберемся... Давай-давай! Нечего дорогу ногами месить.
Петрович искренне
обрадовался неожиданному попутчику, а, главное, — вдруг понял, что кому-то в
эту ночь может быть хуже, чем ему. Он картинно поежился, прежде чем хлопнуть
дверцей, — мол, смотри, там темно и холодно: май здесь — не май-месяц, да и
июнь еще не лето, ночами на улице не то что свежо — холодно. Инок залез на
пассажирское сидение и поставил в ноги вещмешок.