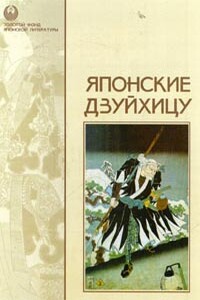В 1895 году я наконец убедился, или почти убедился, в своем призвании. Уже более двенадцати лет я был, что называется, «профессиональным писателем». В 1883 году, пытаясь побороть одиночество и бедность, я написал небольшую «Историю табака». В 1884-м — перевел «Гептамерон» Маргариты Наваррской[1], а 1885-й и 86-й годы посвятил «Хроникам Клеменди», большому тому средневековых повестей. Еще один перевод — «Искусство достигать цели» Бероальда де Вервиля[2] (имя этого автора звучит куда привлекательнее, чем того заслуживает его книга) — занимал мои вечера в 1888 и 1889 годах, тогда как в дневные часы я перекладывал на английский язык двенадцать томов воспоминаний Казаковы.
В 1890-м я сочинял статьи и эссе, рассказы и заметки, а также всякий вздор для газет, от которых ныне уцелели лишь названия — «Глобус», «Сент-Джеймс газетт», «Вихрь»; сюда же можно приплюсовать «изящные вещицы» для вымирающего поколения журналов, адресованных читателям из так называемого «хорошего общества». В 1890-м и 1891-м я писал «Великого бога Пана» — в конце 1894 года эта повесть была напечатана и произвела некоторое волнение среди старых дев — как в прессе, так и за ее пределами. Весной и летом 1894-го я возился с «Тремя самозванцами», но книга, вышедшая осенью 1895-го, успеха не имела. И таким вот образом к концу 1895 года я убедился, что превращаюсь в «профессионального писателя», чье ремесло — создавать книги. И теперь мне следовало сесть за стол и написать еще одну книгу. Прекрасно! Оставалось только решить: какую?
И тут мне очень помогла неудача «Трех самозванцев». Как я уже говорил, эта книга осталась почти незамеченной, а если кто и обратил на нее внимание, то выразил резкое недовольство ею. Меня окрестили второсортным эпигоном Стивенсона. Не совсем заслуженно, но доля правды в этом была, и я счастлив сообщить, что сумел достойно встретить поражение. Мне надлежало исправиться, и я принял нужное решение. Я сказал моему другу, известному гражданину Америки А.Э. Уэйту: «Больше никому не буду предлагать белый порошок». В общем, мне удалось исполнить этот обет. Приходилось начинать все сначала, с чистой страницы, искать новую тему и новый стиль. Без белого порошка, без «чаши властителя бездн», без Великого бога Пана, гномов, эльфов и прочих подозрительных персонажей, а также (и это оказалось сложнее всего) без размеренной, завершенной стивенсоновской речи, которой я научился владеть с известной сноровкой и легкостью. Кое-что я уже знал. Например, какую книгу я писать не буду. Оставалось решить, какую буду.
Эта проблема занимала мои мысли во время прогулок по сумрачному Блумсбери, как нельзя более подходящему для человека, стремящегося к сосредоточенному размышлению. Я только что перебрался на новую квартиру — в Вернлэм бил-дингс на Грей-Инн. Теперь, пройдя по Теобальд-роуд, я сразу попадал в тот старинный серый квартал, где жизнь шла так же спокойно и тихо, как в маленьком провинциальном городке. Один серый квартал сменялся другим, тихие улочки, похожие, как близнецы, незаметно перетекали друг в друга — все здесь было достойно, солидно, шум больших улиц и людской суеты не нарушал покоя. Кто-то поднимался по ступенькам сумрачных старых домов, кто-то спускался, местные торговцы, все как один продолжатели семейного дела, старомодные, настойчивые и честные, спокойно и ненавязчиво предлагали свои товары. Тихий и умиротворенный Блумсбери помогал мне сосредоточиться, и в его серой тишине я напряженно пытался осмыслить стоявшую передо мной задачу.
Наконец я нашел решение. Оно пришло не изнутри и даже не из Блумсбери, оно было подсказано мне извне. Я почти уверен, что подтолкнуло меня предисловие к «Тристраму Шенди», написанное известным и талантливым критиком Чарлзом Уибли. Определяя жанр этого шедевра Стерна[3], мистер Уибли заметил, что его можно назвать плутовским романом, посвященным приключениям ума, подобно тому как плутовской роман «Жиль Блас» посвящен приключениям тела. Когда я читал эту статью, противопоставление Уибли поразило меня, и вот теперь, ломая голову над книгой, которую мне предстояло написать, я припомнил его фразу и, применив ее к другому шедевру восемнадцатого века, подумал: а почему бы мне не написать «Робинзона Крузо» — только такого «Робинзона Крузо», где героем будет не тело, но душа? Я пришел к выводу, что именно это мне и следует сделать, взяв за основу тему одиночества, страха и разобщенности; но от одиночества моему герою предстояло страдать не на необитаемом острове, а в дебрях Лондона: в одиночестве среди множества других человеческих существ. Моей темой должно было стать душевное одиночество. Океан, окружавший Робинзона Крузо и отделявший его от других людей, в моем романе должна была заменить духовная бездна. Я полагал, что эта тема подходит мне как нельзя лучше — ведь в таких делах у меня был собственный опыт. Два года я познавал одиночество в моей маленькой комнатке на Кларендон-роуд у Ноттинг-Хилл-Гейт, так что материала для книги было предостаточно. Словом, я крепко ухватился за эту идею и начал работать.